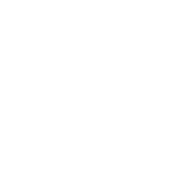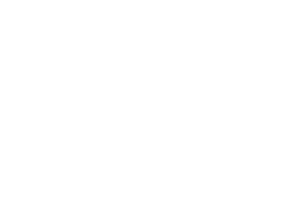[записки снизошедшего]
трагикомическая симфо-сказка
с элементами эссeриала
ALL RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT ©2016Sergei Bourtiak
©3016 Serlas de Bourgh
Это честная книга.
В ней нет хитрых литературно-наркотических приёмов.
Потому осилить её взахлёб вряд ли выйдет. Но не волнуйся.
Не спеши, полистай. Начни читать, когда почувствуешь истинное желание.
Бери по два-три эпизода в день. Или проглоти за три дня и [или] три ночи.
Или даже совсем не читай. Когда дойдёшь до конца, поймёшь, что всё это абсолютно не важно. И ещё. Важно понять главное:
здесь ты совершенно свободен.
Софья Малахова
Сергей Буртяк
РУКОПИСЬ, НАЙДЕННАЯ В ЛОФТЕ
увертюра-прелюдия
[планета Земля, этот год]
А послезавтра она свалилась ко мне. Рукопись.
Я не шучу. Свалилась физически.
Будет, кажется, так… Жена уйдёт на студию доделывать очередной мультик для крупной студии, кот затеряется в нашем новом жилище среди наваленных как попало мешков и коробок, а я встану непривычно рано. И текстом, и холстом заниматься будет немыслимо, и я стану обдумывать, как такое захламлённое пространство гармонизировать. Этот лабиринт Минотавра. Или Хорхе. Или кого там ещё…
Нео-лофт мы выбрали не самый большой: гостиная с просторной лоджией, кухонно-столовая зона, две спальни с гардеробными. Санузел, естественно… Даже два. Ещё — нечто вроде прачечной. Конечно [полагаю] когда здесь будет всё расставлено-развешано-разложено по местам, укромных уголков станет меньше. Наивный… Много ли нужно коту, если он как вода — принимает форму того, куда влез.
Книжные полки и стеллажи уже поставлены-повешены где нужно… Отлично. Можно расставить книги. Великое множество книг. Наконец-то я сделаю это системно. Первый раз в жизни. Я пока не решил, устроить их по алфавиту, по темам, по габаритам или по цвету… Шучу. Или нет.
Для начала сварю крутейшего вьетнамского кофе и обдумаю важнейший вопрос расстановки книг. Кофе-машину искать по коробкам не стану, наткнусь на старенькую медную турку. Внимательно наблюдая [предугадывая] зарождение пены, переберу в голове варианты. Параллельно предположу: когда-то именно так началась жизнь на этой планете. Нет, фигня. Тогда мы были бы очень кофейными. В каком это смысле? Да кто ж его знает… [Учёные, не ругайтесь… Какую-то чушь я несу в эйфории…]
Вариться мой кофе будет долго. И хорошо. Так вкуснее.
Вверху за потолком уютно загудит, почти заурчит. Будто кто-то погладит и слегка потревожит [или наоборот порадует, оправдав ожидания] огромного пушистого кота [копию нашего? белого в рыжей накидке… или серого с ярко-жёлтыми черешнями глаз] дремлющего где-то на небе.
Кажется, невидимый лифт лязгает железками меньше, чем обычно. Или это не лифт? А что? Колесо сансары? Гы… И что такое «обычно»? Для меня здесь всё необычно.
Оставлю турку на огне и полюбусь в окно на просторно-воздушный фрагмент старого города. Исторический центр, река… Странно, что здесь вообще сохранилось это фабричное здание. Или стилизация? Надо узнать…
Господи, как же хорошо жить! Свободно. Без докторов и санитаров… Опять чувствовать, верить и ждать, отдавать, принимать. Любить…
Наверное этот лифто-лофтовый шум будет поначалу мешать. Потом мы привыкнем. Странно, что он вообще есть…
Вроде лифт остановился этажом выше. Прямо над. Нет, невозможно, наверху такие же апартаменты, мы туда заходили. Четвёртый этаж отвергли, высоковато показалось, а третий был в самый раз. За спиной зашипит. Ну вот… Я рвану на звук, выключу газ, приподниму турку, легонько стукну дном о решётку плиты. Пусть осядет. Пенки будет мало. И шут с ней…
Вдруг громкий звук. Как будто на пол грохнулось толстое тяжёлое мягкое нечто. Где-то в гостиной. Странно… Кот обживается? Проделав путь слаломиста, я выйду на относительно свободный паркетный пятачок у камина. Слева от камина — ростовое зеркало. Жена настояла его оставить. И ладно, меньше возни, оно вмонтировано в стену. Вообще, зачем оно здесь? Больше неба? В зеркале я увижу высоченно-широченные витражные окна. Остальная площадь лофта занята книжными шкафами и полками. Жалко, конечно, закрывать красно-кирпичную крутизну.… Но книги всё равно круче.
Вдруг я замечу на полу в зазеркалье какой-то тёмно-зелёный предмет. Повернусь. Во внезеркалье он тоже будет лежать на полу. Подойду и подниму… портфель. Не очень большой, плотно набитый. Похожий на кожаный, но не кожаный. Я пойму это, взяв его в руки. Да, не натуральная кожа. Какой-то хитрый мягкий пористый красивый кожзам.
Значит, портфель… Что ж… Килограмма на четыре потянет, не меньше. Закрыт на ремешок с медной пряжкой. Держа находку за удобную ручку, я приподниму клапан и гляну внутрь. Толстая пачка бумаги; на задней стенке – карман. Запустив в него руку, достану небольшую бумажку. Разверну. Текст печатали на старой пишущей машинке в проблемном состоянии. Язык… Почти русский. Но малопонятный. И правописание непривычное. Забегаю ещё вперёд: в этом издании я кое-что сохраню, – такие вещи сообщают книгам некоторую независимость от хронотопа. Текст будет такой:
Хоть в этой книге и выдумано всё, кроме рассказчика и музыки, автор не несёт ответственности за взгляды и убеждения героев, поскольку сложились они задолго до его появления.
Отложив записку, я достану из портфеля рукопись. Желтоватые листы. То ли от времени, то ли просто такие. Тонкие. Но не просвечивают. Имя автора вверху страницы. Незнакомое. Что это вообще такое? Откуда? Полистаю рукопись, выхватывая фрагменты текста. Нет, не знаю… Не помню, чтобы я это писал… Или писал?.. А когда?.. Нет, не вспомню… Хотя, всякое могло быть… Портфеля такого не помню… Не пойму, откуда он мог свалиться. Судя по звуку, с большой высоты. Или нет? Лестница на второй этаж отсюда далеко. Со стеллажа? Некая чрезвычайно странная рукопись выпадает из книжной полки? Или дизайнер забыл? Или оставил в спешке монтажник? Надо всех опросить. Или такое падает из параллельной вселенной? Вот смех…
Положив рукопись на письменный стол, я захочу разглядеть поднебесные деревянные потолочные балки. Здесь ведь до нас кто-то жил вроде бы. Могло там что-то лежать? Вряд ли. Хотя… Надо будет стремянку… Прикидываю, хватит ли нашей лестницы, чтобы подняться к самому потолку. Наверное хватит. Когда делали проект и заказывали ездящую вдоль книжных полок и стеллажей дубовую лестницу, я рассчитывал так, чтобы доставать книги с самого верха.
Опять посмотрю в зеркало. На долю секунды мне почудится, что по стеклянной поверхности пробежала мелкая рябь, и моё изображение слегка раздвоилось. Глюк? Непредвиденная встреча… Скачок давления? Пытаюсь вспомнить, почему мне знакомо созвучие Серлас де Бург… Бёрг… Берг. Бург... Человека с таким именем я не припомню. Память подводит?.. И тут я догадаюсь… [А позже, дойдя в финале до главы о себе, пойму окончательно. Почти].
На всякий случай для очистки совести [не совсем же уверен в догадке] я в ближайшие дни обзвоню всех, кто мог оставить рукопись. Никто не признается, они даже не поймут, о чём я вообще. Или кто-то сделает вид…
Понадобится много времени, чтобы превратить в книгу рукопись и напечатать большим тиражом. Работать с таким текстом будет непросто. Он… Ладно, не хочу повторяться. Остановлюсь на том, что работы будет — гора. Сейчас прям откровенно: до сих пор сомневаюсь, правильно ли я вообще поступлю… Но тогда я ещё слабовато буду соображать что творю.
Надо пояснить, почему такой подзаголовок: «записки снизошедшего». Дважды прочтя рукопись, я буду жить с незнакомым послевкусием и пытаться сформулировать, что случилось. В какой-то момент пойму. Автор книги [я или нет, неважно] показал устройство людского мира, о котором можно мечтать. В смысле, снизошёл до нас — ленивых, глупых и злобных? Да нет. Поделился. Подарил нам нечто идеальное [почти]. И достижимое [тоже почти]. Так что, не о снисходительности речь, не о высокомерии, — скорей о сошествии нового понимания. Возрадуемся снизошедшему. Типа. Короче, автор помог снизойти к нам особому знанию. Только поэтому так. Только поэтому. Как-то путано я всё формулирую. Но ничего. Дочитаешь книгу — и поймёшь всё. Или больше.
Но это потом уже… Или сейчас… А послезавтра я буду стоять перед зеркалом и туповато пялиться на своё отражение. Потом уловлю движение в зеркале, как бы впереди, но позади. Повернусь. И правда… Неизвестно откуда на свободной от вещей полянке пола появится Патрикей. Сядет, изящным движением обвив себя по полу хвостом. Внимательно посмотрит на меня. Прикроет-откроет глаза — плавно и одобрительно. Широко зевнёт, встанет. И уйдёт вразвалочку. Абсолютно как дома. Усмехнувшись, я сяду за письменный стол и начну читать рукопись. И не встану, пока не прочту до конца.
Вот тянет меня к гиперболам! Конечно нет. Я не просто встану, я буду жить новой жизнью. Работать, гулять, есть, спать. Буду долго читать. Иногда в одиночестве, иногда — вслух жене, будущему малышу и коту. Закончу — и сразу перечитаю. И возьмусь за работу. А получится у меня…
Чуть не забыл, да… «Эссериал». Слово. Неологизм, склеенный из «эссе» и «сериала». Структура записок [либретты — как определил текст на русский манер неустановленный автор] похожа на сериал, а фактура и стилистика «эпизодов» запросто может быть классифицирована как мало пока осмысленный литературный жанр эссе. Впрочем, настолько свободный, что из него — вот увидишь — вполне получился своего рода роман.
Лев Аннинский
МАСШТАБЫ ДЛЯ ЖИВЫХ
экспозиция
"Томас Вулф тащит тачку…
Тачка полна машинописных страниц.
"Рукопись?"
"Это роман, – отвечает Вулф, как будто оправдываясь. – Макс Перкинс так и сказал. Но читать отказался, как и "Девочек Вивиан" Дарджера. Брэдбери начал, второй экземпляр. А этот тебе. Поможешь сократить немножко?"
"Немножко?.."
"Да. Во-первых, будет красиво. Во-вторых, будет точнее. Это сага о странностях и будущем нашего мира. Никакой фантастики, сплошной реализм. Разве что допущение о возможности смерти как всеобщего явления…"
Я "Книгу живых" читать не отказался. Хотя масштабы не меньшие.
Сотни страниц этого, своего рода, симфоромана-эссериала уложены в полторы сотни глав (они называются "эпизоды", и от этого роман напоминает сериал от какой-нибудь таинственной компании N**), участников в каждой главе иногда по несколько десятков. И никого не упустишь, имена все славные. Из российских корифеев: Гоголь, Пушкин, Лермонтов… Читатель легко продолжит: Достоевский, Толстой, Чехов… Гончаров (ещё не нашедший имени для родной обломовщины), Горький (обиженный на Ходасевича), двое Андреевых (которые не знают, что они отец и сын). Сотни великих имён, из разных эпох всечеловеческой истории, и "ещё несколько сотен тысяч интересных, значимых и любимых".
Серлас де Бург такие перечни переживает как откровения. Что бы ни перечислялось: «Принесли нам саке, сякэ, темпуру, немного суши, сашими и роллов, сукияки, тонкацу, кацудон, никудсягу и разнообразные дайфукуумоти к чаю». Можно почувствовать в этом перечне нечто декоративное. Но ощущается – ритм реальности, в которой спасены строй и смысл.
Иногда, углубляясь в тексты любимых литераторов, Бург выдаёт свои точные оценки. Например, Крым у Аксёнова. Остров Крым… Лучшая его вещь, и у Бурга оценена. Вскользь… А если кто помянут не вскользь, а по всей форме, то получается: "Микеланджело Лодовикович Леонардович Буонаротти…" Русская манера сопровождать имена отчествами придаёт героям что-то архаично-царственное. Нерусские собеседники просят: "Нельзя ли без отчеств?" Повествователь отвечает: без отчеств не могу, Иоанн Хризостом Вольфганг Амадей Леопольдович.
Самого автора-рассказчика Серласа Вильгельмовича Бурга собеседники именуют: Серёжа, Сергонито, Сергиус, Сергестус Виталиньевич, Серлас Вильямович, Сергей Нинович, Сергиондиус, Сергиушек, Сергулькин, Рами, Гуша, Гуня, Срулик (уточнение: "Сруль – это моё имя так по-марсиански звучит")…
В чём смысл этого пестрения имён? В том, что ни одно не прочно. Ни рассказчика, ни тысяч его героев. Мировая история – уже не опыт хронологического, социального, классового, национального бытия, – а своеобразная амальгама, гигантская, всепланетная, всепокрывающая эпохи и народы. Живущие в ситуации таинственного вневременного Целого (в том числе и персонажи книг, родившиеся или ещё не родившиеся в воображении великих писателей), являются на встречи с повествователем – так, чтобы не нарушить непредсказуемости той чехарды, которую я называю амальгамой, а сам де Бург склонен именовать клоунадой.
Клоунада Истории: Маяковский ворвался… Лев Толстой припаровозился… Шагал пришагал… Набоков впорхнул… Феллини приамаркордился… Мелвилл причалил… Гомер приодиссеился… Байрон вломился… Дюма примушкетёрился… Скотт прирыцарился… Уайлд придэндился… Хармс прифантасмагорился… С содроганием ждёшь появления Господа… И нагрянул! "При помощи Гипноса и его сына Морфея". То есть, усыпил повествователя. И тот во сне осваивал космос со странной "икорной" структурой.
Сервантес дописывает "Дон Кихота". Публикует потихоньку в "Нью-Йоркере". Ничего удивительного – времена расфиксированы. Пушкин говорит: "Хочу роман сделать, в стихах. Был у меня добрый приятель, Женька Онегин, типичный представитель той моей прошлой жизни. Напишу – дам прочесть…" А закончив об Онегине, выдаёт: "Бродский – глыба! Поклон ему, как зайдёт…" Пушкин с Бродским общаются…
Призмеивается Киплинг: "Вчера в Твери был, у Афони Никитина. Он новый вояж затевает. На этот раз куда-то к центру Земли…" Когда Грибоедова назначили послом в Пояс астероидов, его ожидал подвиг: если бы он "не удержал их переговорами, наша эскадра не подоспела бы. Лангольеры и так сожрали половину Пояса и летели уж к Марсу…" Дела свои романные герой Бурга исполняет с сюжетной точностью. Летит к Сатурну, выяснить, что там делается на его спутнике Энцеладе. Наводит порядок. И в душе своей порядок наводит – спасает любовь.
Не буду перечислять все хронологические кульбиты. Де Бург в них – как дома. Потому что Дом – везде. И всегда. Два верных робота у него (Первый и Второй), готовят угощение, чтоб собеседники не проголодались. Верные друзья Серласа де Бурга часто ведут себя как дети. И ещё один верный друг у него: кот Пушкин. При угрозе хозяину чувствует себя тигром. При появлении А. Пушкина запросто с ним беседует.
А вот новый собеседник: Никола Тесла приэфирился. "Свойства нашей туманности пока что туманны… Впрочем, не суть. Вчера заходили Архимед и Кулибин. Протеже своего привели, Левшу, молодого парнишку, самородка. Блох подковывает без микроскопа". Повествователь обомлел: "Николай Милутинович, вообще-то Левша – персонаж Лескова". Тесла посмотрел удивлённо: "И что? А выглядит живенько…"
И так же живенько выглядит Циолковский, объясняющий, что Солнечная система больше не находится там, где мы привыкли. Она теперь в созвездии Сетки за пятьдесят миллионов световых лет.
Ну а эпоха? Что думает автор о том, какая эпоха грядёт?.. Его ответы тревожны: "Мир опять втягивают в глобальный конфликт…" – "Весь наш мир – Книга песка. Зыбкая и текучая. Книга, которая не может быть окончена никогда". – "Конечно, ещё не конец. Но он скоро… конец известного нам мира".
Серлас де Бург
КНИГА ЖИВЫХ
[либретта затворника, писанная в отдалённых областях числа π
в ночь с 32 мая на 31 июня 2021-3022 лет Господних от Первого Пришествия]
___________
ПОСВЯЩАЕТСЯ ПРЕТЕРПЕВШИМ ДО КОНЦА
_____________…коль вы держите путь туда же, куда и мы,
и не слишком торопитесь, то сделайте милость, поедемте вместе…
Мигель Родригович де Сервантес Сааведра
…я спрячусь в газету, а ты меня поищи…
Даниил Иванович Хармс
…это реальность? это только фантазия?..
Фаррух Бомиевич Булсара
…он стал уноситься к звёздам, беседовать с Сократом
и переписываться с Шекспиром….
Григорий Израилевич Горин
…вечером к тебе придут те, кого ты любишь,
кем ты интересуешься и кто тебя не встревожит…
Михаил Афанасьевич Булгаков
…вскоре вы сможете лично читать свои стихи Гомеру,
а я буду обсуждать свои открытия с самим Архимедом…
Никола Милутинович Тесла
…я бы рассказал вам всё, что захотите, и даже больше,
если бы то, что я говорю, было равно тому, что вы услышите…
Дэвид Фостер Джеймсович Дональдович Уоллес
…всё, что я действительно знаю, это то, что я действительно…
Шейн Патрик Лайсат Морисович МакГоуэн
…пусть оживут ваши сердца…
Давид Иессеевич Иегудин, царь
…это окончательное действие, которое есть предел и цель всего, последняя фаза человеческой природы,
разрешение мировой драмы, великий апокалиптический синтез…
Пётр Яковлевич Чаадаев
…рассказчик, проходящий сквозь все последующие страницы, первое и единственное действующее лицо, представляется не как реальный автор, а всего лишь как личность живущая в чрезвычайно далёком будущем…
Олаф Вильямович Стэплдон
…вращая стрелки вселенских часов – часов на мильонах небесных брильянтов
в мильярды карат, – прихлынули в виде воспоминаний все остальные столетия…
Саша Всеволодович Соколов
...всё остальное произошло по ту сторону образов и действий…
Герман Иоганнесович Гессе
…человек, который отваживается нырнуть в этот поток,
возвращается на поверхность с полными руками чудес…
Рэй Леонардович Брэдбери
_____________
СОНАТИНА. ANDANTE NON TROPPO
__________________
Любая достаточно развитая технология неотличима от магии.
Артур Чарлзович Кларк. Третий закон
что Николай Васильевич ещё не написал "Шинель", но видел в толпе
лицо помещика Чичикова и нежно относится к роботам
"Что-то, – говорит, – как-то всё тревожно стало, Серёжа. Тревожно и душно. И душа опять мертвеет как будто".
Я ему отвечаю: "Да будет вам, Николай Васильич, не преувеличивайте. Это у вас просто уныние, депресняк-с".
"Теперь я вижу всё как на ладони. А прежде, я не понимаю, прежде всё было передо мною в каком-то тумане. И это всё происходит, думаю, оттого, что люди воображают, будто человеческий мозг находится в голове; совсем нет: он приносится ветром со стороны Каспийского моря… " задумчиво сказал Гоголь.
Вот теперь и мне стало тревожно. И даже душно немножко. И вспомнились слова профессора Жаринова про поддувающий могильный ветерок, шевелящий наши виски. "Вам бы отвлечься, дорогой Николай Васильевич. Моцарта послушать, или кого-нибудь римского. Или Корсакова. Аль обновку какую справить. Вон хоть шинельку".
Он вдруг заулыбался, старенькую свою летнюю крылатку на вешалку вешая, и взгляд на меня чуть смущённый бросая. Май нонче прохладный выдали, вот и Гоголь, хоть и не в зимней уже, но всё ж таки в шинели в бричке своей разъезжает.
"Добро! – говорит. – Так и сделаю, а то что-то всё не досуг. Я, собственно, вот с чем зашёл-то к тебе… На будущей неделе первую свою выставку живописную даю, на Никитском бульваре 7, в доме Толстых, Александра Петровича и Анны Георгиевны. Они буквально недавно исполнили свои давнишние намеренья: он – в Иоанно-Предтеченском скиту поселился, она – в Бельмажской обители. А дом свой мне насовсем подарили. Вот и решил я новоселье отметить. Буду представлять цикл картин "Живые души: Новый мир", холст, масло. Джамбаттисто приедет, прочие итальянцы, французы ещё, и наши, Саша Ива́нов обещал, Брюллов, Коля Ге, Миша Шемякин, Шагал Марик, Шнитке… Альфред Гарриевич, кстати, написал оперу "Малороссия", по мотивам хохлацких моих повестей. Ты придёшь?"
Я вздохнул, помолчал, снова вздохнул и сказал: "Отчего ж не притти…"
[И вдруг вспомнил как последний раз был в том доме в Старом мире. Но неясно, в тумане… детский спектакль… декорация Диканьки… воздушные шарики с портретом и словами "Дом Гоголя". И люди… какие-то люди, которые вызывали сильные чувства, но ни чувств, ни самих людей не могу вспомнить… туман… провал… бездна… ощущение, будто накрепко что-то забыл…]
Очнувшись, я увидел, что Гоголь смотрит на меня и улыбается радостно.
То есть, мизерная доля секунды прошла, он и заметить ничего не успел.
Ну и хорошо. Прошли мы с ним в гостиную и устроились за столом у плетня, выращенного квартирой моей во мгновение по лучшему образцу уютнейшего малороссийского шинка.
Появились мои роботы. Первый (это его так зовут) выглядел невысоким, сантиметров восьмидесяти, Вием, Второй (тоже имя) – Носом-на-ножках, росту примерно такого же. Принесли борщ с пампушками, тонко нарезанное сальце с чесночком, поросёнка с хреном, рыбу лабардан, вареники с картошкою, творогом, вишней, варёную кукурузу и бигус; а ещё немного горилки в запотевшем лафитничке и плодово-ягодный узвар в коричневой глиняной крынке. Не было, правда, макарон al dente с грудами сыра, но я решил, что это у Н.В. и так всегда есть, хотелось побаловать друга.
Гоголь смотрел на изобилие с удовольствием, да и роботы ему нравились; он им поулыбался, и они ушли, весьма довольные, что угодили столь почётному, хоть и привычному гостю. Впрочем, на Носа Николай Васильевич смотрел пристально-удивлённо. А я подумал, что надо будет пожурить Второго за спойлер. И послал ему мысленный месседж перекинуться в Тараса Бульбу.
"Вот и славно что придёшь! Без тебя как без рук. Или ног!"
Я усмехнулся: "Уж скорей как без носа".
Гоголь посмотрел на меня странно, с растерянной опасливой полуулыбкой. И обернулся. Я это заметил. Мне стало неловко, я налил нам по стопке горилки и пригласительно глянул. Уговаривать себя Николай Васильевич не заставил. Будьмо!
Опрокинули мы по стопочке, закусили сальцем с чесночком и приступили к борщу. За обедом говорили о каких-то безделицах, в основном кулинарных; в частности, затронули важнейший вопрос пышности чесночных пампушек и изысканной недоваренности макарон. Но одна тревожная мысль всё ж покою мне не давала.
"Николай Васильич… Притти-то я приду, но вот только… – я немного помедлил, раздумывая как бы лучше сказать. – Чтений точно не будет? У вас больше никаких артефактов в рукаве не осталось? Древних текстов или новых, но странных… А то, не дай бог, опять чего учуди́тся…"
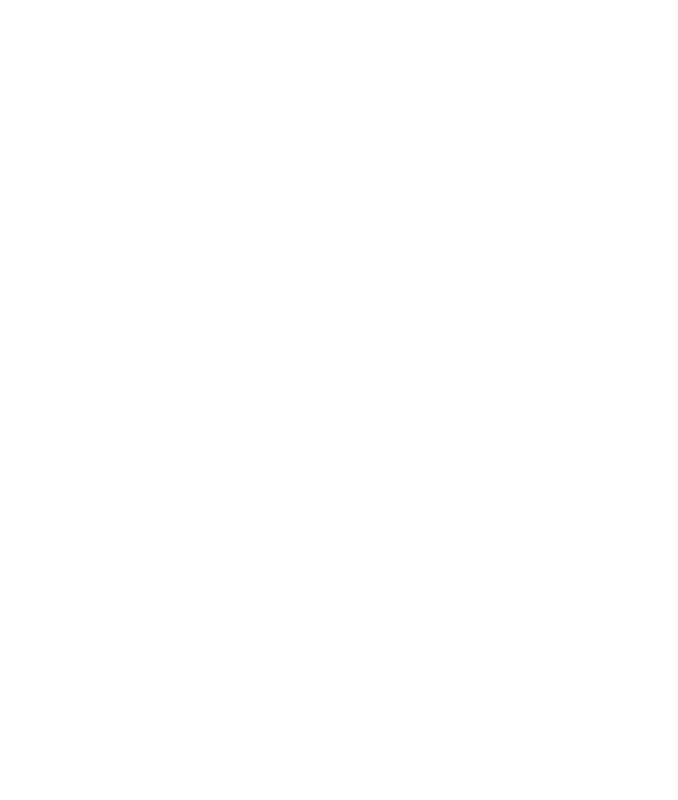
переснято и увеличено
Гоголь на неё коротко глянул и головой замотал, энергично так, горячо: "Нет, Гуша, всё! Клянусь! Больше никаких экзерсисов. Только живопись, и немного шампанского. С текстами и так-то уж нахлебались мы…"
И смотрит c виноватостью некоторой, и борщ хлебает.
Я молча киваю. Мы в глаза друг другу с пониманием смотрим.
Потом он говорит, ложку откладывая: "Хотел, кстати, я с тобой посоветоваться. Надысь кино посмотрел, как от одного орган ушёл… хм… причинно-следственный, так сказать, и стал жить своей персональною жизнью…"
Я невольно поморщился.
Он кивает: "Да-да, это верно, я вот тоже так среагировал. Хотя, и фильма-то неплоха вроде, артисты прекрасные, оператор, да и режиссёр, мне показалось, изрядный. Только… Одним словом, я вдруг подумал про нос. Я о нём вообще часто думаю, избыточный он у меня, чрезмерный, волей-неволей думается о нём. Вот и подумал я… А что если представить, как однажды утром просыпаюсь, а у меня носа нет. Вскоре появляется в городе новый чиновник, небольшого росточку, и выясняется постепенно, что он – и есть мой бывший нос! А? что скажешь?.. Давно я ничего не писал, а тут зазудело опять…"
Я сделал вид, что немного подумал.
"Опасался я, с одной стороны, а с другой – ожидал, что вам писать снова захочется… А про нос… Ну что, неплохая идея, мне нравится. И всегда нравилась. Гм… Я говорю, Пушкину точно понравится. И Набокову – очень. И Кафке. И Гофману наверняка. Да и вообще…"
Гоголь улыбнулся застенчиво: "Вот хорошо. Счастлив я, что ты одобрил!"
Я уточняю: "Вы что же, с Адельбертом встречались?"
Он немного смутился: "С каким Адельбертом?.."
Я по-инерции продолжаю: "Ну как… фон Шамиссо. Он недавно мне рассказывал свою выдумку. Сказку про человека по имени Петер Шлемиль, продавшего свою тень".
Гоголь совсем смутился: "Тень?.. Так причём здесь… У меня ж нос. И не проданный вовсе…" он опасливо покосился на свою длинноносую тень на полу.
Я рукой махнул и говорю: "Да, это я с Тимом Талером и проданным смехом перепутал наверное… Не важно. Идея у вас замечательная. И текст будет самостоятельный. У меня только один вопрос есть. А с чего убежал-то он, нос? Причина какая? Мотив. Жажда свободы? Или, там, власти, не знаю…"
Он говорит: "А я покамест не думал в таком ракурсе. Меня занимает как повесть в целом писать, как сюжет строить. Нос-то сбежавший – повод всего лишь, исходное событие. Хотелось бы о жизни реальной написать, о нравах, но преломлённо".
Я говорю: "Это понятно. Но завязка-то убедительной должна быть. Ну, скажем, нос сбежал, потому что…"
Гоголь брови вскидывает: "У него большая гордыня!"
Я усмехнулся: "Это скорей у хозяина, что его высоко задирает".
Он чуть смутился: "А нос привычку такую сделал…"
Я головой мотнул: "Думаю, сложновато, Николай Васильевич. А если проще? Скажем, часто хозяин этого носа нюхал табак, а носу не нравилось. Или хозяин ковырялся в нём, предположим, неаккуратно, ногти не потстригая, или…"
Гоголь на меня неодобрительно посмотрел и сказал суховато: "Подумаю".
Видно предположил, что я насмехаюсь и немножко обиделся.
Я решил тему сменить: "Николай Васильич, вы простите, что лезу… Как у вас на личном-то фронте?"
Он вздохнул.
"Нозинька опять отказалась выйти за меня замуж, Сашенька немножко разладилась… Что-то у неё в организме заклинило, она всё время кусок фразы повторяла: "Не дум, не дум, а…" Механик районный наш еле её отключил и отправил к Тесле на доработку. Так что скучаю-с…"
Он помолчал.
"Не могу я определиться, вот ведь беда. Идеала ищу, а нет его… А барышни чувствуют сомненья мои. Как сказал один юноша недавно: не аутентичен я в предложениях своих… Не моя это стихия, вероятно, – женитьба. А ты с чем интересуешься? Нет, я не сержусь на тебя, знаю, ты точно без зла. Но всё же?.."
Я помялся.
"Да как вам сказать… Позавчера Ландольфи повестуху новую тиснул в "Нью-Йоркере". "Жена Гоголя" называется. Не видали ещё?"
Он поморщился, но не слишком расстроенно.
"Это там где он пишет как я с куклою механической проживаю? Читал. Потешная повесть. Современная. У нас многие последнее время андроидов выбирают, не афишируя. Впрочем, кое-кто и не стесняется, а некоторые вообще с роботами живут, которые все в шестерёнках, без имитации кожного покрова даже. А Сашенька – никакая не кукла, у неё душа есть. Во всяком случае, я это так воспринимаю".
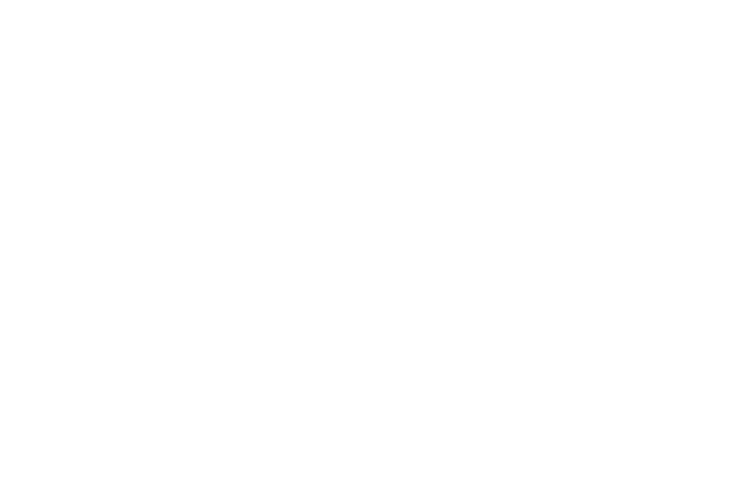
А барышни чувствуют
сомненья мои
"Вот и славно. А то я уж было подумал, может расстроит вас этот текст".
"Да ну что ты! Там даже потуги есть на глубину психологическую. Мол, мы наших женщин наделяем своими качествами, а потом сами же с ними боремся, пытаясь их к ногтю прижать".
"Да-да. Вот и Кауфман недавно "Аномализу" снял. На эту же тему примерно. Хорошо получилось, пронзительный мульт. Правда, мир у него там страшноватый, не наш".
"Не видел ещё. Не знаю, может и гляну, тогда обсудим. Не складывается у меня с анимацией. Смешно, да? У Гоголя не складывается с анимацией. Абсурд!"
Он посмотрел на меня с непонятной горечью.
И тут я сообразил: anima – душа, ну конечно. Гоголь, ду́ши. Ну да…
А он продолжает: "Норштейн никак "Мёртвые души" не кончит. Тяготит его поэма объёмом, ох тяготит. Ещё этот, как его, всё забываю… Игольчатой анимацией занимается".
Я киваю: "Алексеев. Александр Алексеич".
Гоголь поморщился: "Да знаю я на самом-то деле. Просто сердит на него как чорт! Снял он мульт "Ночь на Лысой горе". Роскошный мульт. Странный, страшный. Я ему говорю: "Что ж не "Вечера-то на хуторе?" И зачем же по Мусоргскому-то да Мережковскому? Почему не по мне? А он говорит: "Души" твои длинные больно. Ты напиши, Николя, что-нибудь покороче, но убедительное для меня, я и сниму. Николя!"
Гоголь сердито хмыкнул и засопел. Я смотрел на него, молчал и улыбался. Он стал сопеть ровнее, потом рассмеялся.
"Ну их совсем, художников этих. Сняли "Пропавшую грамоту" мою – и довольно".
Я говорю: "Николай Васильевич, вы даже не представляете, сколько мультиков будет по вашим "Петербургским повестям", которые вы только начали".
Он долго смотрел на меня. Видно было, – хочет о чём-то спросить. Но не спросил, только молвил: "А Томмазо передай, пусть не прячется. Я не Сашка или Миша, секундантов, чуть что, слать не стану. Даже если б он пасквиль какой написал, совсем без любви ко мне, я б и то не сердился. Люблю я Италию, сам знаешь. Ты, кстати, как насчёт секундантом выступить? Если что. А то Королёв какой-то нехорошую повесть настрочил. "Голова Гоголя" озаглавлена. Ни складу, ни ладу, какая-то чушь".
О как! А вот этого я не учёл… Ведь появляются какие-то произведения, заново написанные в Новом мире про Старый мир… Как будто бы фантастические. Не обязательно ведь автор помнит всё, но на то и художник, чтоб интуичить. Я обдумывал, как бы половчее выкрутиться и Гоголя успокоить, но он вдруг махнул рукой и поморщился.
"И бог с ним совсем! Расскажи лучше, как у тебя-то с амурами? А то как ни зайду последнее время – ты один да один".
Я усмехнулся: "Один да один это уже двое".
Он улыбается: "Это к Саше Соколову, prego. Или к Стивенсону. Или к Фёдор Михалычу, или к Набокову, или к Эдгару По…"
И смотрит выжидающе, давая понять, что моя попытка увести разговор в сторону не удалась. Я молча рукою махнул и стал смотреть за окно.
Он вздохнул сочувственно: "Не грусти, образуется. А на выставку жду тебя непременно. Развеешься".
Он помолчал немного.
"Тревожно мне что-то, Серёжа… Вот и с носом этим… Кажется, будто я это уже когда-то писал… А ведь нет. Все записи перерыл – ничего. Я много из Старого мира помню, но книг-то оттуда нету у нас… – он помолчал. – Помню, как мы тогда воевали… до книг ли нам было… И сейчас что-то такое мерещится. Как бы беды не случилось. Не от меня, конечно… Хотя давеча показалось, Чичикова лицо мелькнуло в толпе".
У меня легонько кольнуло в сердце.
Гоголь что-то ещё хотел сказать, но передумал. Кивнул, из-за стола вышел, прошёл в переднюю, шинель свою старенькую с вешалки забрал и ушёл, обняв меня на прощанье.
Я ушёл в кабинет и сел дальше писать, а сам думаю: "Шинель". Хорошее ведь название для повести. Надо подкинуть кому-нибудь. Может как раз Гоголю? У него должно получиться". И тут испарина меня прошибает. Что это я? Ведь получилось когда-то! Ведь написал уже Гоголь "Шинель" в Старом мире! И все мы, в сущности, из неё вышли. Кроме Набокова. Он как раз вышел из "Носа"…
А судя по нашей беседе, не помнит Гоголь ничего про "Шинель".
Да что Гоголь, и меня склероз накрывает. Ох, и правда, что-то странное в атмосфере творится. Не вышло б беды…
И я решил послушать Вивальди. Или Римского-Корсакова. А уж потом думать, что делать дальше.
ALL RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT ©2016 Sergei Burtiak
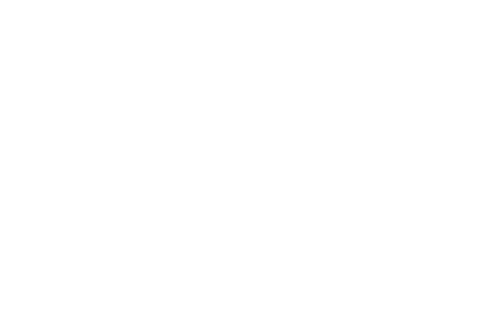
По воздуху. Держась за бороду карлы Черномора, эйр-скутера нового образца, как будто на верёвочной лестнице под небольшим вертолётом висел.
На подоконник панорамного окна моего, что выходит на двор, спрыгнул, карлу жестом отпустил, тот бороду втянул, да и взмыл в небеса.
"Слышь, Серж! Давай, что ль, отку́порим? – кричит мне Пушкин почему-то в манере Охлобыстина, с подоконника сходит и добавляет голосом моего папы. – А?! Вечный студент!"
Я конечно фраппирусь малость, но виду не подаю.
"Не получится, Алексан Сергеич. Нельзя мне, подагра-с. Вот в другой раз непременно".
Он со смеху покатывается: "Студент-подагрик! Ну ты даёшь!"
Я уточняю с улыбкой: "Ага, вечный. Как Агасфер. Понимаете?"
Он вдруг серьёзным становится, чинным каким-то.
"Поговорим о вечном-с?"
Руки за спину закладывает и на манер чиновничий по гостиной проходится. А гостиная ему потакает, зараза, становится залом каким-то парадным, с колоннами и канделябрами.
Пушкин морщится: "А я чувствую себя каким-то вечным камер-пажом. Это всё ты, со своей буквой "ж"!"
Я смеюсь: "Алексан Сергеич, я её даже не произносил!"
Он упрямится: "Значит из подтекста твоего выловил".
Походил ещё немного, Тютчева изображая, потом сказал:
"Студент-подагрик и камер-паж романтик калякнули вместе мощный романчик", прочитал он вдруг в рэп-стиле и сам прифигел.
Мы долго ржали.
"Романтик? Не смешите меня Александр Сергеевич! Байрону это втюхивайте! Вы монстр реализма, и знаете это отлично!"
"Я? Со сказками да поэмами?"
И задумался.
"С Байроном-то я не общаюсь уже… Кстати, Арина Родионовна моя примерно как ты говорит мне. Ты, говорит, Сашенька, реально того-с…"
Мы посмеялись ещё немножко. Хотя, честно говоря, это уже было не слишком смешно-с. Я знал о разочаровании Пушкина в Байроне, понимал, но переживал.
Потом Пушкин сказал: "Слушай, ну коль не откупорим, так давай хоть с роботами твоим в шарады сыграем. Как они мне нравятся, роботы! С тех пор как заменили ими хамов, началась невероятно чудная жизнь. Они ведь такие… беззлобные, умные! А красивые какие! С этой откровенной своей анатомией, шестерёнками этими, колёсиками, молоточками, маятниками… Без всяких имитаций кожного покрова или какого другого. И вот эти струйки пара из ушей, когда они обрабатывают задачу, это просто находка невероятная! Прямо стимпанк какой-то, ей-богу! Кто их дизайнер, Серёжа?"
Я скромно потупился и сказал, чтоб от темы уйти: "Уж скорей ретрофутуризм. А вообще-то они в разных стилях могут. Многие из них метаморфы".
Пушкин достал из кармана молескиновский блокнотик и серебряный стилос с вечным графитовым стержнем от Джорджа Сэффорда Паркера.
Из своей каморки вышел один из моих роботов. Сегодня он был похож на персонажа чешской игры "Машинариум", которой я увлекался незадолго до гибели Старого Мира.
Я представил как Александр Сергеич с большой любовью издевается над бедными добряками роботами, а те изо всех сил стараются во всём ему угодить.
Скоренько отослав робота за чаем с бисквитами, я сказал: "Алексан Сергеич, "Женитьбы" новую версию сняли. Хотите – посмотрим?"
Он уточнил: "Бомарше или Гоголя?"
Я воскликнул: "Бомарше конечно! Николай Васильич и женат-то не был ещё! Эх, и тёмный вы, батенька! Как арап какой-то, ей-богу!"
А он смеётся, зубы белоснежные обнажая и белка́ми глаз сине-серых посверкивая и перстень с изумрудом на большом пальце вертит..
"Шутник ты, однако. И на мысли горазд. Арап Петра Алексеича! Браво, Серж! Напишу я повесть про предка моего, обязательно!"
Я говорю: "Вот и круто! Кстати, я недавно ваш новый роман фантастический про пугачёвщину прочитал, "Капитанская дочка". Уютнейшая вещь! Сюжет – оторваться нельзя! А язык… Невероятно! Пишите прозу, Александр Сергеич. Стихи-то это понятно, но и проза у вас – ого-го!"
Он на мягкую скамеечку сел, нога на ногу, рукой вытянутой на спинку облокотился, смотрит с улыбкой, бакенбарды другой рукою пощипывает.
Робот принёс угощение и быстро слинял.
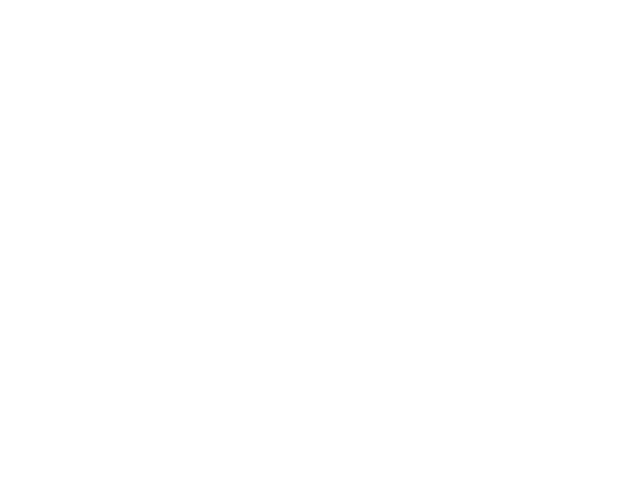
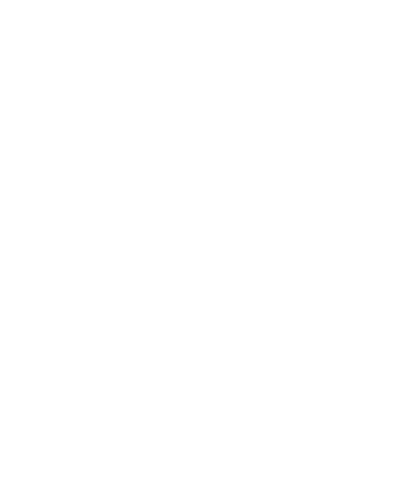
"Хорошо-с… – и продолжил без паузы. – Я пишу-пишу… Идеи со всех сторон льются. Вот, к примеру, на днях Достоевского видел, с пользой для дела. Сидит в казино, в карты играет. И что-то бормочет всё. Я прислушался, а он масти карточные перечисляет. Как безумный, ей-богу! Мы с Гоголем были. Коля сразу выдумал повесть-дневник "Записки сумасшедшего", а я вспомнил старую байку про "пиковую ведьму", что тайной трёх карт владела. Теперь уж напишу непременно!"
Пушкин вдруг чашку поставил и опять стилос достал из кармана, за ухом почесал; из другого кармана блокнотик опять вытащил, черкнул что-то стремительно, всё убрал и смотрит печально.
Я говорю: "Что случилось?"
"Да вспомнил тут… В плагиате меня пытаются обвинять. Мол, тырю стиль у Вальтера Скотта".
Я опешил: "Как так! Это кому ж в голову такое пришло?"
"А я знаю? Критик какой-то, не помню я, кто чушь эту городит. А ты ведь Скотта читал?"
"Вальтер Вальтерыча, конечно! – я чуть замялся. – Но мне, откровенно сказать, только "Айвенго" его и нравится…"
Пушкин вскочил: "Вот! И мне тоже! Нет, тырю стиль! Какой стиль-то? Куда стырил? В "Капитанскую дочку"? В "Дубровского"? Куда?! Почитали бы хоть чего, прежде чем пасквиль писать. Ведь свежие вещи-то! Критики хреновы! Дилетанты! Нет, конечно, фраппировать меня не трудно, я сам фраппироваться рад иногда. Но такое – уже чересчур!"
Однако он быстро успокоился.
"Гёте заходил. За "Сцену из Фауста" хвалил меня".
"Правильно хвалил. Блестящая вещь! Он вроде тоже про Фауста пишет?"
Пушкин улыбнулся.
"Ему ещё долго, он на большой объем замахнулся".
И продолжил без перехода: "Моцарт тоже заглядывал. Хорошо посидели с ним. Наврал, говорит, ты, Саня, маленько в "Трагедиях маленьких", но получилось трагично!"
Я улыбнулся.
А он продолжает: "Нет, видно прозой писать – не моё, всё ж таки. Как Слава Баширов говорит: если можно стихами, зачем прозой? Зреет тема одна, замысел. Хочу роман сделать в стихах. Был у меня приятель один, Женька Онегин… Не творил, к сожалению, и злой был, сердитый, так что… не с нами он… Последнее время часто его вспоминаю. Очень уж он типичный представитель той моей прошлой жизни… Насколько помню её… Напишу – дам прочесть перед тем как печатать. Что-нибудь дельное скажешь".
Я говорю: "Это честь, бро…"
Он смеётся и говорит: "Ещё сказки хочу, тоже в стихах. "Руслана и Людмилу" дописал недавно, про витязей князя Владимира поэму, про Черномора, карлу этого злобного с бородищей… Понравился он мне, даже гениальному механику Эду Чайне из английского дизайн-бюро "Wheeler Dealers" эйр-скутер заказал, "Черномора", ты видел. Кстати, о Чёрном море… Ты в Одессе давно не был?"
Я вздохнул: "Давно…"
"Соберёшься – скажи, вместе съездим".
"С удовольствием!"
Он на золотой перстень свой еврейский, на указательный палец надетый камнем вниз, глянул и вдруг опечалился, затуманился взор.
"Повидался бы я там кое с кем, в Одессе пыльной… – он помолчал. – Да и с Пушком твоим, с моим тёзкой, тоже бы повидался. Он там сейчас?"
"Там. У родителей моих гостит, помогает им, пока я тут…"
Мне тоже взгрустнулось. Пушкин это заметил.
"Хороший кот у тебя. Рад я, что мы с ним в один день родились, люблю его, хулигана зеленоглазого".
"Так я его потому Пушкиным и назвал, что шестого июня. Годы только разные".
"А это не важно. Едем непременно, выбирай времечко. И Лермонтова захватим. Тоже видел его вчера в кабачке. Сидит, в одну точку смотрит, улыбается и декламирует негромко: "Белеет парус одинокий…" Мне кажется, и он по морю скучает".
Я говорю: "Захватим конечно!.. А насчёт критиков вы успокойтесь. Русский Вальтер Скотт – это уж скорей Лажечников Иван Иваныч. С "Новиком" со своим, да и то… "Ледяной дом"-то его уж точно – не Скотт. А вас в подражатели стилям рядить – стыд и позор. Или подлость. Ежли узнаете, кто позволил себе такое – скажите, я с ним поговорю по-мужски".
Он на перчатки мои боксёрские, на стене висящие, посмотрел, успокоился, снова сел, позу изящную принял.
"Жаль, не откупорим. Славно бы посидели".
Я улыбаюсь слегка виновато.
Он говорит, глядя в окно тревожно: "Ладно, в другой раз… Идти мне надо, пожалуй… Что-то буря мглою небо кроет… Ты не грусти тут. А то, смотри, в Михайловское приезжай. Попьём вина, закусим хлебом. Или сливами. Расскажешь мне известья…"
Я подхватываю: "А посте́лите в саду под чистым небом. Чтоб я мог всю ночь разглядывать созвездья…"
Он смеётся, со скамейки вставая: "Молодец! Тебе пальца в рот не клади!"
Мы посмеялись.
"Ты Иосифа-то давно не видал?"
"Как же-с, на той неделе. Пишет стих большой, по мотивам Жюль Пьерычевых романов. Непонятный местами, но мощный".
Пушкин кивнул: "Бродский – глыба! "Пророчество" его люблю, "Дебют", "Письма римскому другу"… Да много чего. Поклон ему, как зайдёт".
Я кивнул.
Он к двери пошёл, а сам медлит.
Чувствую, не всё сказал.
И действительно…
"Вчера престранное письмо получил. Какой-то Дантес пишет. Умоляет за Чёрную речку простить. Я расстроился. Во-первых, ничего не понял. Кто такой Дантес? Какая Чёрная речка? Но знаешь что ещё более странно? Всё это как будто касается меня, но я какие-то обстоятельства и события совершенно забыл… Не стал я Наташе про письмо говорить. И ты молчи, – он перекрестился и трижды плюнул через левое плечо. – Письмо – чушь, может ошиблись адресом, но примета дурная, чую".
"Не берите в голову вообще! Дантес – садист и преступник, можете поверить мне на слово. Уголовники всегда стараются слезу выжать у нормальных людей, постоянно дуркуют. Он в Старом мире свою дочь в психушку упёк за любовь к таланту вашему. Забудьте. У Вергилия ему самое место".
Он немного подумал, потом понуро кивнул головой своей кудрявой.
Я продолжаю: "Наталье Николавне поклон!"
Он рукой махнул вяло-неопределённо, смотрит грустно: "Приезжай, Серж…"
Я руку ему пожал крепко, он и ушёл.
"Эх, – думаю, – "Женитьбу"-то так и не посмотрели, заболтались совсем…"
И вдруг меня осенило. Какой ещё Дантес? Ведь нет у нас связи с Аидом, он и к сети-то нашей не подключён… Надо с этим тщательно разобраться. К примеру, пообщаться с Метьюрином, может он что-то знает.
А ещё я подумал, что обязательно к Пушкину в деревню выберусь. Какие-то у него, похоже, опять нелады на душе.
ALL RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT ©2016 Sergei Burtiak
Не физически, нет, просто впечатленье такое.
"Устал, что ли?.." думаю.
Кафка на кушетку прилёг, на спину, и пальцами шевелит как насекомое какое.
"Я к тебе зашёл передохнуть, на минутку… – сказал он печально. – Не поверишь, чувствую себя тараканом, Сергиус. Здоровенным таким тараканом. Премерзким и презираемым всеми".
Я говорю: "Натюрлих, Франц Геныхыч! Уходить вам надо из офиса. Не приведи господь, планктоном себя почувствуете. Там ведь только те, кому это свойственно".
Он вздыхает: "Насчёт уходить не знаю, скорей удаляться, как лишний файл с убитого жёсткого диска… Всё-таки я предпочитаю элегантный стиль… А вообще, да, ты прав. И Милена говорит, и Фелиция, и Юлия – все… Ушёл бы я, конечно ушёл бы. Геныха Яковлевича только опасаюсь немного. Или много… Очень уж он меня опекает… Ох, и тяжко мне делать вид, что я такой же как все, обычный, нормальный! А ещё Дора заявила недавно: хочу замок, а не то – процесс! Не понимает, дурёха. Какой там процесс? У меня один процесс – творческий. И какой такой замок? зачем?.. Абсурд какой-то, фантасмагория… Хоть в Америку беги, право слово!"
Он вдруг тихо заплакал, но быстро взял себя в руки, утёр слёзы носовым платком, с кушетки поднялся.
Я даже не успел никак отреагировать, вижу только, что прибавилось вроде у него сил. Ну и хорошо, думаю, хоть какая-то польза от неожиданного визита.
"Что ж, – говорит Кафка, – пойду с Максом беседовать. А то опять собрался наследие моё публиковать. Сколько раз ему говорил: "Не смей. Не хочу". А он своё – гений, гений…"
Я не нашёлся что умного сказать и ляпнул первопопавшееся: "Не зная Брода – не суйся в воду".
Он посмотрел удивлённо.
"Хорошо сказано. Ёмко, фантасмагорично. Да ты, Сергиус – уркрафт!"
Я говорю честно: "Эт не я, Франц Геныхыч, это мудрость народная. Пословица русская, типа. Вот где мощь настоящая".
Он задумался.
"Фразочку найти, – пусть и народную – не всякий способен. Алес! Брод подождёт, пойду к Достоевскому. Что-то он насчёт "Двойника" своего хотел посоветоваться. А вечером у Гоголя выставка. "Живые души: Новый мир" называется, холст, масло. Говорят, гениально. И посмотреть хочется, и кое с кем повидаться. Орсон Уэллс донимает меня насчёт деловой встречи, Джереми Айронс посоветоваться хочет, Кайл Маклохлан тоже… Подозреваю, в каких-то фильмах они оба меня будут играть… Это безумие, просто безумие… Страшно, аж жуть. А ты пойдёшь?"
"А как же! Николай Васильич лично позвали-с!"
"Гут! – воскликнул он. – Я ещё Флобера вытащу из башни его костяной".
Я удивился: "А он опять себе башню построил?"
Это было действительно странно.
"Построил, – вздохнул Кафка. – Торчит небоскрёб сказочный в Нормандии как кость доисторического ящера, в землю вбитая. Эпилепсия опять накрыла Гюстава нашего Клеофасовича… Рассказывал недавно по граммофону. Странный недуг. Все побеждены, только этот остался, да другие душевные всякие, вот ведь напасть. И Фёдор Михалыч, вон, мается… А Гюстава ещё вдобавок Эмма Бовари донимает ночами, очень уж как-то развратно, нечеловечески… И Клейст засмурел… Его тоже попробую вытащить. Пусть в виде голограммы, но обязательно!"
Кафка собрался было уходить, но тут, видно, вспомнил важное.
"Да! - почти вскричал он. - Я же впечатлением не поделился! Прочёл недавно Гарсиа Маркеса, "Сто лет одиночества", "Полковнику никто не пишет", "Осень патриарха", "Бесконечность Макондо"! Ёлки зелёные! Так у вас говорят, да? Или, тут скорее, кактусы сочные! Я просто в шоке. Я не понимаю, как так можно писать! У меня будто мир перевернулся весь! И как раз после этого я написал "Превращение". Вот!"
Ответ мой впечатлённому Кафке, похоже, особо нужен не был, поэтому он кивком попрощался и довольно бодро ушёл.
А я подумал: "Что это вдруг Гюстав Клеофасыч… Опять башню построил… И что это значит "Эмма Бовари донимает ночами"? Надо было подробнее расспросить… Да и Клейст ещё… Что-то тёмненькое мерцает…"
И лёг на диван перечитывать "Превращение" под пятую симфонию Малера.
ALL RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT ©2016 Sergei Burtiak
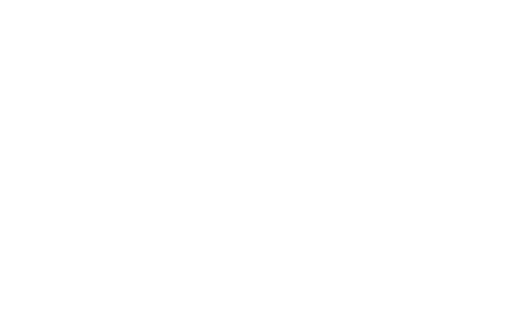
"Я к тебе зашёл передохнуть, на минутку… – сказал он печально. – Не поверишь, чувствую себя тараканом, Сергиус. Здоровенным таким тараканом. Премерзким и презираемым всеми"
С вяленым марлином подмышкой.
"Серхио, – говорит, – я тут рыбы наловил. Хотя трудно это стало. Уменьшилось поголовье марлинов. А Neomarinthae Hemingwayi совсем исчез. А ещё, говорят, дельфины с Земли улетают. И нескольких китов видели, они с первой космической скоростью… Прямо в небо. Жуть. Надо с Дугом Адамсом повидаться, может знает чего, – и продолжил без перехода. – У тебя пиво есть?"
Я говорю: "Нету, Эрнест Кларенсович, я от него совею".
Он не унывает, достаёт из сумки большую бутылку кубинского рому.
"Тогда дайкири замутим. Лайм-то есть у тебя? Грейпфрут, ликёр?.. – говорит Хэм уже с кухни, роясь у меня в холодильнике. – Праздника хочется!"
Роботы, которые сегодня выглядели шестипалыми котами, заглядывали в кухню ревниво, но не вмешивались.
Я говорю: "Так праздник – он всегда с нами, в каком-то смысле".
Он из кухни вышел с двумя стаканами грейпфрутового дайкири в руках, смотрит радостно: "Хорошо сказал, Серхио, надо запомнить. Давай-ка".
Мы выпили.
Он улыбается, смотрит с прищуром, ворот свитера оттягивает.
"Ты, – говорит, – старик, на море давно не был".
Я вздохнул: "Эт точно".
Хэм головой качнул неодобрительно, марлина на лестницу вынес, дверь плотно прикрыл.
"Пусть пока там полежит, раз пива нет".
"Не опасаетесь? Там коты шастают".
Он посмотрел на меня с нехорошим прищуром.
"И что ты имеешь против котов?"
Я махнул рукой и печально вздохнул, не сдержался: "Да бросьте вы…"
И так мне грустно стало, по Пушку заскучал. Подумал, что надо всё-таки на какое-то время забрать его из Одессы, от родителей, пусть у меня поживёт, тоже ведь скучает наверное…
Хемингуэй печаль мою заметил, но истолковал неверно.
"Ты всё по Одри грустишь? Не отвык ещё? Хотя, как тут отвыкнешь… С женщинами ведь как с велосипедом. Один раз научился – и на всю жизнь. А вообще, любая женщина – это всегда масса проблем. И мужчина должен командовать. Только так и есть правильно".
Не дожидаясь ответа, Хэм махнул рукой и вдруг стал серьёзным.
"Я с тобой вот о чём поговорить хотел. Ты Стругацких знаешь?"
Я киваю: "Знаю конечно! Дружим. Вчера Аркадий Натаныч заглядывал, "Аквариум" мой подробно хвалил".
Он удивляется: "Только прочёл? Я давно. Глубокая повесть! Я только читать начал, сразу подумал: тоже про море напишу. Непременно напишу, старик, непременно… Тут, кстати, один мультипликатор повадился, Петров из Ярославля. Всё намёки делает, о старике каком-то, о рыбе, о львах…"
Хемингуэй ненадолго задумался, а потом вернулся к теме: "А ты их "Понедельник" читал?"
"Стругацких? Конечно. Любимая книжка! – и поправился деликатно. – Одна из. Русскоязычная, в смысле. А так-то…"
Хэм меня уже не слушал, и я не закончил.
Он на стол сел и смотрит понуро.
"Понедельник начинается в субботу". Это ж я так хотел роман свой назвать!"
Я оторопел: "Неужели?"
"Ну! Дамочке одной похвалился, она растрепала, они подсуетились…"
Я огорчился: "Вон оно как… Но они-то не знали, скорее всего…"
Он на меня сквозь слезу глянул: "Посоветоваться хочу. Дошёл слушок до меня, они книжку задумали, "Трудно быть богом". Как думаешь, справедливо будет, если я название у них… позаимствую? Как они у меня".
Я лоб почесал: "Так они её написали уже. Классная книжка".
Он удивился: "Как написали? А что же я пропустил-то?.. Вот ведь Куба… Рай земельный…"
Я говорю: "Эрнест Кларенсович, не огорчайтесь. Давайте, может, у кого другого чего… гм… посмотрим. Вот, Джон Донн, например… Вы с ним мало общаетесь".
Он поморщился и сказал с протяжным гудением: "Доннн…"
А я книжку с полки достаю, открываю наугад и читаю: "…а потому не спрашивай никогда, по ком звонит колокол; он звонит и по тебе".
Он брови вскинул: "По ком звонит колокол? Серьёзно? Да брось!.."
Ром оставшийся прям из горлышка выдул, пробормотал твёрдо: "Эзра Паунд, ты не прав! Оставьте мне мартини и вермута на утро..." и тут же заснул, на полу прямо, отпустило его напряжение-то.
А я стою, смотрю на него с улыбкой, а потом вдруг вижу внутренним зрением, да достоверно так, скелет огромного марлина на лестнице, чистый-пречистый, белый-пребелый, как будто уменьшенно-схематичный белый погубленный кит.
И вместе с шумом прибоя и рома зашелестела в мозгу фраза: "Хемингуэю снились коты".
ALL RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT ©2016 Sergei Burtiak
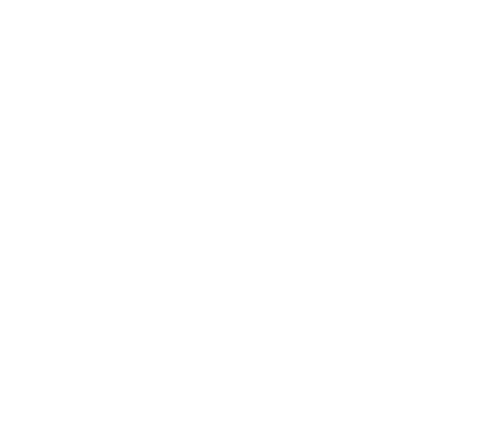
"Я тут это, Сергунь… Можно я с тобой чуто́к наедине побуду?"
Я опешил и говорю: "Что это вы, Михал Юрьич, дезориентировались маленько?"
"Да нет, просто скучно что-то. И грустно. И некому руку подать".
"А что случилось-то?" говорю.
А он вместо ответа вдруг стал читать стихи. Смутно знакомые:
"Наедине с тобою, сын, хотел бы я побыть. На свете множество причин, чтоб стало тошно жить! Ты скоро вырастешь совсем: смотри ж… Да что?.. плевать нам всем на мудрые советы, и лишние приветы. Хотя, коль будешь говорить с роднёй, помилуй Бог, скажи: отец не бросил пить и от цирроза сдох, не громко, жизнь благодаря; и хоть старались лекаря, уж было слишком поздно, недуг развился грозно. Бабулю с дедом навести, не бойся слёз из глаз; скажи последнее прости, они любили нас. Постой у дома, где орех, тот, грецкий, буйно, как на грех, растёт, тоски не зная, совсем не умирая. А если вдруг моя жена, ну мать твоя, сынок (конечно, обо мне она забыла в маете́ дорог), всё ж спросит, ей скажи: простил. И перед смертью не грустил. Пускай она не плачет. Быть не могло иначе".
Я смущаюсь: "Так это ж мои, из Старого мира…"
Он улыбается: "Твои, твои. И не хуже моих, заметь себе!"
Я скромно улыбаюсь и, головой качнув, говорю: "Не знаю… Такое настроение было почему-то. Вас вспомнил, Даля…"
И снова у меня появилось ощущение чего-то напрочь забытого.
Михаил брови вскинул: "Даль отлично мои стихи читает! Проникновенно и точно. И твои, кстати, тоже".
Он замолчал, загрустил.
Я говорю: "Так что всё-таки случилось-то?"
Миша вздохнул: "Ты понимаешь, намедни название увидел изрядное: "Герой нашего времени". Маканин Вольдемар настрочил".
"Ну и что?"
"Ну понравилось. Жаба поддушивает. Как увидел, полное ощущение, что моё название. Просто придумать ещё не успел".
"Ё-моё, Михал Юрьич! Делов-то! Стырьте, да и всё!"
"А и то!.."
Он улыбнулся с грустинкой и по усикам пальцем провёл.
"Про Лермо́нта всё думаю. Про Томаса Рифмача".
"А что думаете?"
Он вздыхает: "Ну как он там, в стране фей этих или эльфов… С оленями этими белыми".
"Сказки всё это. Скорее всего вообще Маршак выдумал. Он мистификатор тот ещё. Когда баллады аглицкие переводил, такого там напридумывал, чего и не было никогда".
Он говорит: "Убедительно… Надо с Киплингом посоветоваться. Он про Томаса тоже писал. С Толкиеном надо бы тоже… Он вроде понимает в этих эльфийских делах".
Я говорю иронично: "Вы ещё с Конан Дойлом посоветуйтесь. Он в феях разбирается здорово. Даже считает, что какие-то девочки их на "кодак" сфотографировали".
Он на меня вопросительно смотрит: "Сарказм?"
Я смеюсь: "Ирония!"
У него лицо засветилось улыбкой.
"Насчёт фей не знаю, но Юрий Андреич-то на самом деле из Шотландии был. В Россию через Польшу попал. Прадед мой. Как и твои, кстати – из Нормандии да Ирландии. А ты думаешь, нет фей да эльфов?"
Я плечами жму: "Нечисть всякую видел, да и вы тоже видели. В избытке. А фей с эльфами – нет".
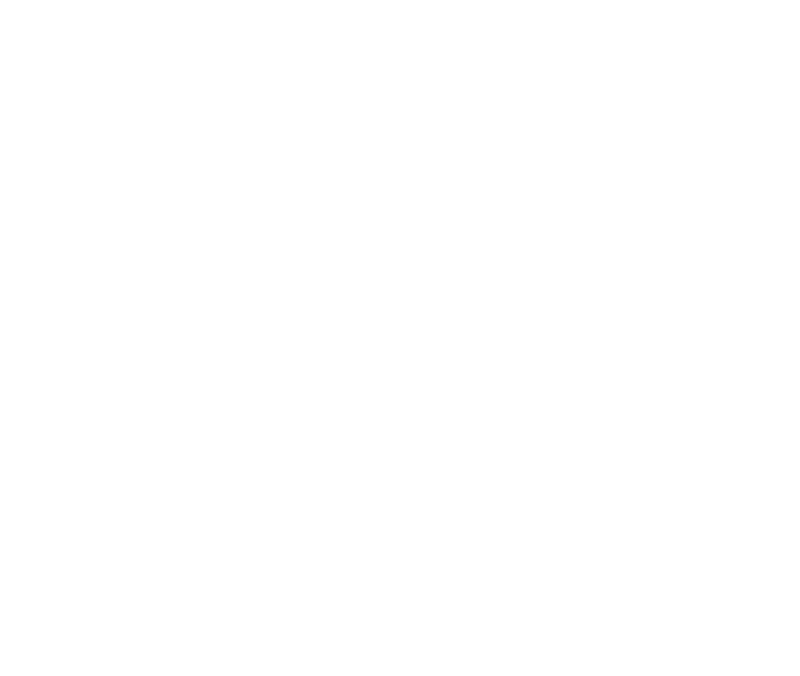
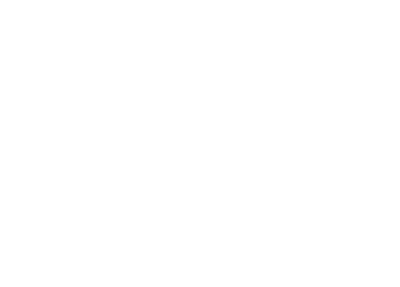
"На Кавказе я демона встретил недавно. Даже общался с ним. Не позавидуешь такой участи. В смысле, участи демона… – уточнил Лермонтов. – Он ведь когда-то в войске у Михаила был. Правда, к моменту нашей войны дезертировал уже, за Люцифером пошёл. Жалеет до сих пор, думаю. Нервный".
Я говорю твёрдо: "Их уж нет никого в нашем мире, Михал Юрьич. Забыли-с? И нечисть из Аида только во сны к нам заглядывает".
"Точно. Нету. Но я всё равно хочу поэму написать. Крайне меня эта тема волнует последнее время".
"И напишите! – и продолжаю, беседу переводя. – Как Варенька?.. Варвара Александровна…"
Он заулыбался ласково: "Голубка моя!.. Хорошо она, отлично даже. Поклон тебе передавала. И любимой твоей".
Я улыбнулся невесело.
"Спасибо, – говорю. – Варя мне очень её напоминает".
Он посмотрел на меня испытующе.
"Понятно… Значит правду трепали, что расстались вы… Ты не смурей. Ежли депрессия навалится – к Фрейду сходи. Он в Москве теперь часто появляется голографически, надоел ему Лондон. У вас, говорит, благодатнее как-то. Надежды больше".
"Схожу непременно. Вот Дали отстанет от него…"
"А что Дали?"
"Да всё сюжеты сновидческие из Сигизмунда Яковлевича вытягивает. Пытается наукой сна овладеть".
Лермонтов говорит: "За наукой сна-то ему лучше к Гондри".
Я хмыкнул и говорю: "Гондри – последователь только. Интерпретатор. А Фрейд, я думаю, скоро Дали отвадит. Зачастил Сальвадор Сальвадорыч к нему в Тёмные Обители виртуальные. И как только тропки находит, я удивляюсь… Кстати, любовь вроде как у него…"
Лермонтов удивился: "У Дали? Иди ты! И с кем?"
"С русской дамой одной. Дьяконовой Галиной Ивановной Дмитриевной".
"А что за два отчества?"
"Папу Иваном звали, отчима Димитрием. Не смогла выбрать. Житейское дело, хоть и из Старого мира".
Он головой покачал: "Вот сложности у людей… Как услышишь подобное, так и подумаешь: как у меня-то всё прозрачно, ёлки-моталки… В общем, если совсем накроет тебя, лучше сразу к нам с Варюшкой в Тарханы! Понял меня?"
"Да всё нормально, Миш… Михал Юрьич… Как "Маскарад"-то ваш? Пишется?"
Он виски́ трёт пальцами.
"Не слишком, Серёжка, не слишком… Я с Варей счастлив, а тут пьеса про ревность, сумасшествие, смерть!.. Фантастика. Не люблю. Сколько варьянтов сделал, и так кручу, и сяк – не нравится! Не знаю я, брошу наверное. Лучше "Демона" напишу, "Мцыри", "Калашникова". Это не роман про автомат, я его бросил. Писал по-инерции, видимо, колбасило после войны. А это про купца одного, боксёра. Провёл он важный бой честно, хотя проигрыш его лично царь заказал. Короче, там сложно… Напишу – почитаешь. Будет песня. Ну и роман новый конечно! Хорошо, ты одобрил название… А с Маканиным договорюсь я! Не хочу воровать, придумаю какой-нибудь бартер…" он улыбнулся.
"Да ладно… – говорю. – Он у Толстого "Кавказского пленника" спёр, а вы миндальничать собрались… Вы вообще уверены, что он не слетал на машине уэллсовой в будущее и ваше же название не увидал?"
Он печально вздохнул.
"Не люблю я интриг этих сложных. Я люблю по-военному. Враг – значит враг, друг – значит друг. А возня эта вся… Да и врут, я думаю, про машину-то времени".
Помолчал он – на лицо вдруг упала тень от тучки небесной, вечной странницы, – и вдруг спрашивает полушёпотом: "Тебе Алексан Сергеич насчёт письма говорил?"
Я удивляюсь, киваю: "Да, говорил. А что?"
Лермонтов на окно покосился, на дверь – и совсем на шёпот перешёл: "Он-то Старый мир мало помнит, можно сказать, практически не помнит совсем. А я помню. Правда, иногда есть ощущение, что не всё… Но не важно… Дантеса я помню прекрасно. И хорошо помню, что он натворил. А ещё я помню Мартынова. Ты помнишь Мартынова Николай Соломоновича? – не дождавшись ответа, он сказал. – Так вот, он мне написал".
Я почувствовал, как кровь отливает от лица.
Он смотрит испуганно.
"Что ты, Сергей? Плохо тебе?"
Я сел на диван, отдышаться маленько.
"Не понимаю, Михал Юрьич… Надо с Данте советоваться. Что-то странное происходит. Никогда раньше оттуда письма сюда не приходили. А тут второе уже. За неполный месяц. Не приоткрылись ли опять Врата…"
Он помолчал.
"Может фейк? Глумится кто-то?"
"Да кто?! В нашем мире таких не осталось уже… Вроде бы… Разве пьющие крепко… Нет, с Дунарте я точно поговорю. И вообще, надо опять Совет собирать. И хорошо бы Архистратига позвать… Как об них подумаю, даже легче становится".
Лермонтов на меня смотрит в ужасе священном, садится на стул.
"Думаешь, плохо всё?"
Я вздыхаю: "Вряд ли всё. Не знаю пока. Но лучше никому про письма не говорите. Не дай бог, паника. Сперва надо всё расследовать тщательно".
Он кивнул, встал, мундир одёрнул, каблуками щёлкнул с уважением и ушёл твёрдой походкою.
А я ринулся к камину вызванивать Данта.
У него было занято.
ALL RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT ©2016 Sergei Burtiak
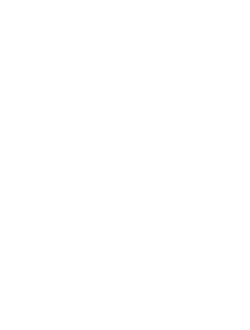
Сел насупротив за круглый стол овальной формы и сидит, фишку казиношную в пальцах вертит.
"У тебя, – говорит, – Сергей, не запой ли?"
Я говорю: "Никак нет-с. А у вас?"
Он молчит, желваками играет. Потом вдруг глазами забегал униженно-оскорблённо, стушевался, в пустоту глядючи, и давай бормотать: "Тройка, семёрка, туз, тройка, семёрка, дама…"
Я ему говорю мягко: "Фёдор Михалыч, вам поспать бы. Часиков семь. Али восемь. А то вы как слон, спите по два часа в сутки".
Он рукой машет: "Пустое, ангельчик мой, пустое. Пусть твари дрожащие спят, а я право имею. Бодрствовать".
Он немного помолчал.
"Скажи мне, голубчик, а ты чувствуешь, что тоже вышел из гоголевской "Шинели"?"
Я удивился: "Ух ты! Написал уже? Быстро".
Достоевский смотрел на меня очень желчно.
Я смутился.
"Заново, я имею в виду".
Достоевский вздохнул.
"Сто тыщ экземпляров у Сытина, сто у Шубиной, сто у Профферов".
Он шлёпнул на стол книжицу. Она была чудесная, небольшая, обложка оформлена в виде шинели, с лацканами и пуговицами.
Я взял, полистал с удовольствием.
Достоевский смотрел немного ревниво, потом сказал нехотя: "Прав этот француз, как его… Вогюэ. Статью накатал про меня, Льва и Ваню Тургенева. Мол, у всех у нас ноги растут из повести этой. Гоголь всех нас сделал".
"Ну, я бы сказал, это некоторое преувеличение. Некоторое. Но в целом, я согласен. Я-то точно отсюда".
Я погладил обложку ладонью.
Достоевский смотрел на меня с какой-то неизъяснимой тоскою.
"Эжен этот в датах маленько путается, но тоже помнит, видно, чего-то. А я как статью его прочёл, так представил… Ведь для того, чтоб выйти из книги, надо сначала в неё войти. Это я огрубляю, упрощаю, так сказать, образ. И вот представил я себе, что мы все, я, ты, Гоголь, Пушкин, Толстой, Тургенев, не знаю, Набоков, Соколов – живём в этой книге. В аду этом сером, чиновничьем. И так мне дурно сделалось. Прям до припадка".
Я вздохнул: "Фёдор Михайлович, однако воображенье у вас…"
Он посмотрел на меня очень серьёзно.
"Не как мальчик же я верую во Христа и его исповедую, а через большое горнило сомнений мне осанна прошла".
Я говорю с облегчением от смены темы: "Братья Карамазовы" – великая вещь. И всё в ней есть, и Свет, и Тьма. Потому вы и допущены к ним туда, пусть и удалённо… И Алексеев графику чудесную сделал. Великий иллюстратор!.. А сейчас-то что пишете?"
Достоевский поиграл желваками.
"Про блаженного парня одного роман начал. Как бы идиота, но доброго очень, истинного христианина. Князя Кошкина".
Я осторожно уточнил: "Кошкина?.."
Он покривился: "Кошкина, Мышкина, не знаю пока! Не суть! Главное – про светлейшего человека, ангела во плоти, в человеческом теле; никто его не понимает и считают все дурачком и юродивым. Там тоже важные идеи. Про воплощение добродетели".
Я говорю: "Интересно… Но странновато. Фёдор Михайлович, вы ведь Старый мир помните, правда же?"
Он немного подумал, брови нахмурил.
"Что, и про Кошкина-Мышкина я уже писал?"
Я молча на него смотрю.
О желваками играет, но сдерживается.
"Подозреваю я, Совет мне что-то пытается блокировать в голове, но не то что нужно. И вообще, память у меня какая-то избирательная, как твой любимый Саша Всеволодович написал".
"Блокируют вряд ли. У нас ментальное воздействие такого рода, во-первых, запрещено, а во-вторых, практически невозможно. Исключительно через внешние субстанции и явления. Только образно. А книги свои вы все восстановите и новые напишете, даже не сомневаюсь. При переходе из Старого мира в Новый почти ничего не сохранилось. У меня тоже. Кто-то сказал мне, что ещё про подростка какого-то пишете. Набоков вроде бы".
Он усмехнулся едко.
"Набоков завидует мне как чорт. И поливает грязцою. Не про этот я случай. Вообще. Исповедь Ставрогина ему покою не даёт".
Я рассмеялся: "Ничего, он это в хороший роман сублимирует".
Он покивал.
Всё трудней мне сдерживать Ставрогина, Смердякова и прочих моих. Сложные они, активные и сложные. Адски сложные…
Я удивился: "На меня?.. Какой я подросток?.."
"Типичный, бесценный мой! Судя по любовному поведению с этой артисткой. А роман мой про искушения, про борьбу с дьяволом. По жанру – роман воспитания и преодоления".
Я задумался, как к этим словам относиться, не обидеться ли.
"Неужто я вас на тему игр с дьяволом вдохновляю?"
Он поморщился.
"Ты – препятствие. Пока ты есть, тьма сюда не рухнет. Нет, пытаться, конечно, будет всегда. Потому и столько искушений у тебя. А ты лавируешь, играешь. И преловко, замечу. Однако как бы тебе не заиграться, не повзрослеть".
Я почти ничего не понял из сказанного.
Он улыбнулся невесело.
"Ты теперь не вникай, не вникай, друг мой дорогой, не вникай, потом само всё поймётся. Давай лучше ещё обскажу, что пишу. Дневник – постоянно, о бесах роман кончил-с. Бесы – это иносказание, метафора. Но и нет одновременно. А потом роман о Нём напишу. Большой будет нарратив, настоящий".
Мы помолчали минут десять. Много чего я за это время подумать успел, повспоминать. Аж больно стало от воспоминаний.
Я говорю: "Фёдор Михалыч, как эпилепсия ваша?"
Он рукой машет обречённо.
Я вздыхаю сочувственно: "Мне Эйнштейн сказал, и Пруст тоже: лечить вас не нужно. Вы, мол, в том числе благодаря недугу вашему, такие смыслы и уровни духовности постигаете, какие никому из ныне живущих недоступны. Даже с подагрой. Звучит убедительно. К примеру, с Вергилием, Иоанном Богословом и Архистратигом, кроме вас, не многие могут общаться, даже из Совета Старейшин".
Он усмехается едко.
"Тяжкая ноша, Серёжа. Страсть – тяжкая. Думаешь, я ей рад? А с Эйнштейном виделись недавно. Смешной он. Забавный. Но гений – сразу видать… – Достоевский опять помолчал. – У тебя, кстати, нет ли взаймы? Аня опять всю наличность отобрала: и ракушки, и золото с серебром, и криптики".
Я головой помотал и говорю: "Вы бы завязывали с игроманией, Фёдор Михалыч. Не болезнь ведь, распущенность. Наличных ссудить не могу-с по причине отсутствия оных. И койнов не переведу-с. Анне Григорьевне мой нижайший поклон. Она у вас настоящий ангел-хранитель".
Он головой покачал и смотрит на меня мрачно.
"Да-с, денег не дам, – сказал я мягко, но твёрдо. – А вот шахматы могу подарить. Ну и вообще – заходите запросто во всякий час".
Он ухмыльнулся едко, резко поднялся, шахматы мои подмышку забрал.
А потом сказал совсем непонятное: "Всё трудней мне сдерживать Ставрогина, Смердякова и прочих моих. Сложные они, активные и сложные. Адски сложные…"
Я замер.
"Невдомёк мне, о чём вы толкуете, Фёдор Михайлович…"
Он вздохнул: "В своё время, Серёжа, всё в своё время. Я ещё и сам не до конца разобрался…"
Достоевский тоскующим взглядом посмотрел за окно.
Я прошептал: "Хотя, может быть и догадываюсь… Знаю я, что Ад реальнее стал, ближе к нам. Мне Борхес рассказал, как недавно через страшные сны в Ад заглядывал. Дали, кстати, так делает, к Фрейду бегает. Данте недавно там был. Сведенборг тоже… А Даниил Леонидыч такую жуть описывает в "Розе Мира-2" – волос стынет, – как Давид Маркович в исполнении Володи Машкова выражается".
Достоевский подозрительно на меня покосился и кивнул: "Вот так вот. Расслабляться нельзя. Но я думаю, дело вовсе не в Аде. Сложнее. И ты своё дело должен крепко помнить. Понимаешь меня?"
"Понимаю".
"Хорошо".
Он помялся немножко. "А ты, значит, серьялы смотришь?"
Я говорю с улыбкой: "Бывает, да. Не все конечно, но лучшие – да. И я их не только смотрю, я их пишу иногда".
"Сейчас тоже пишешь?"
"Ну да, Никулин Юрий Владимыч попросил биографию его написать, в формате кино с телеверсией. Вот, работаем-с… А ещё по роману "Кто" своему сценарий пишу. Для Уайлера. Долго. Много правим, придумываем. Интересно".
Достоевский оживился: "Это не он ли "Римские каникулы" снял?"
"А как же-с, конечно! А ещё "Как украсть миллион", а ещё…"
Он говорит: "Ишь ты… Большой режиссёр. И что, хочет роман твой снимать?"
Я руками развожу, как бы слегка извинительно.
"Значит это он тебя с актёркою познакомил? С которой у тебя роман был недавно…" – не спрашивая, констатируя грустно.
Я говорю нехотя: "Формально он-с, да. Вильгельм Леопольдыч душа человек. А меня с ним когда-то познакомил Далтон Трамбо, мы дружим давно. Он меня научил в ванне работать, а Кулибин сделал специальный корпус для моего ноута, водонепроницаемый, из тончайшей коры венерианского дуба. Так что я теперь могу даже под водой писать, спокойно. Просто надо принять заранее немного ихтиандрина, чтоб дышать под водой. А что, Фёдор Михалыч, вы что про сценарии вдруг? Раньше не особенно интересовались".
Он вздохнул: "Надо будет мне с тобой посоветоваться подробнее. Предлагают экранизировать моё кое-что… Но, впрочем, это ладно, потом, ближе к делу. О главном надо пока, – и добавил уж совсем напоследок. – А слон, кстати, животное полезное".
Вздохнул, скривился как будто от боли, и ушёл восвояси.
"Господи! – подумал я. – Какую же ношу этот человек несёт за нас за всех, убогих и мелких!"
И отправился подземным ходом в Храм Софии Премудрой. С преподобным Сергием надо побеседовать. А потом Иоанна Богослова вызвать, вдруг и у меня выйдет.
ALL RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT ©2016 Sergei Burtiak
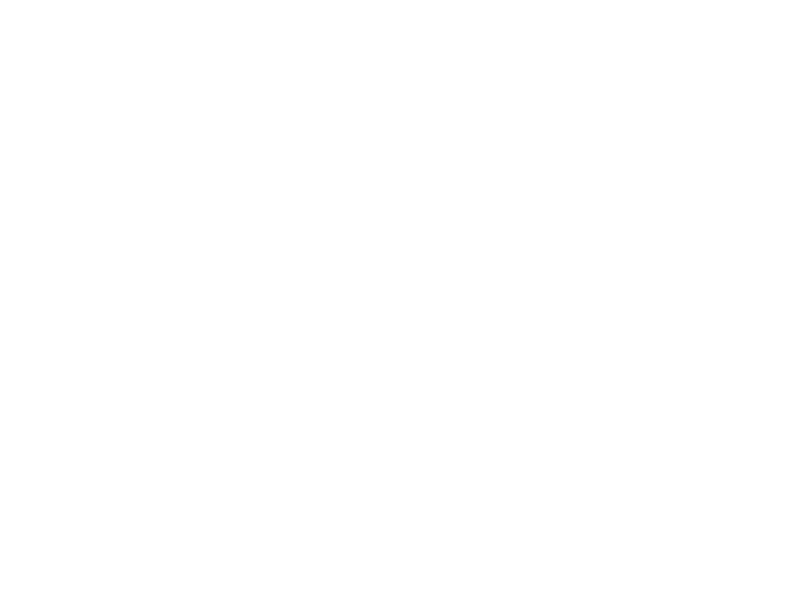
"Если б Фёдор Михалыч себе их оставил, не жалко бы было. Так он же их в ломбард потащил. Деньги нужны были на казино. Ему Совет играть запретил и денег выдаёт минимум, вот он и выкручивается. А шахматы мои живые. Они из любого ломбарда ко мне пешком возвращаются. И на головах доску приносят. Вон они, на полке стоят, прикалываются"
"Сергун, Мариенгоф у тебя?"
Я удивляюсь: "С чего бы, Владимир Владимыч? Он у меня редкий гость".
Он на меня в упор смотрит, бровями хмурится.
"Циник! Подлец! По физиономии хотел ему дать. Есенина опять напоил в воскресенье, и давай глумиться! "Заратуштру" танцевать заставлял. Насчёт Дунканши завидует".
Я прокашлялся: "Это вряд ли… Нет, Изадора Иосифовна – женщина яркая, так и у Анатоль Борисыча супруга тоже не простушка какая. Тут другая причина. А сам-то Сергей Саныч где? Давно не заглядывал".
"Где-где, в Рязань укатил. Пьёт опять. На Толяна дуется. Подлецом называет. Ох, и надоели они мне со своей дружбой латентной!"
Он шаг по комнате сделал и кричит издалека: "Сергун, сценарий напишешь к моей новой фильме? Сюжет расскажу! Хочу много стедикама и компьютерной графики!"
Я кричу: "Напишу конечно! Вот только романец закончу!"
Он шаг обратно сделал.
"Вот и меня тоже бабуля всё к роману склоняет".
Увидев мой полуобморочный взгляд, он стал пояснять, глядя на меня как на олигофрена: "Бабушка моя, Ефросинья Осиповна, двоюродная сестра Григорь Петровича Данилевского, автора "Княжны Таракановой" и "Мировича", всячески уговаривает меня взяться за большую литературную форму и написать роман. Так понятней, Серёня?"
Я смеюсь: "Да ну вас, ей-богу, Владимир Владимирыч! Сначала ляпнете, фраппируете, а потом как дебилу поясняете".
Он смотрит чуть виновато: "Прости засранца…"
Мы посмеялись.
Потом он говорит: "Стихи пишутся. Вот из новых: "Я сразу смазал карту будня, плеснувши краску из стакана; я показал на блюде студня косые скулы океана. На чешуе жестяной рыбы прочел я зовы новых губ. А вы ноктюрн сыграть могли бы на флейте водосточных труб?!"
"Хорошо. Мощно".
Он молчит, грустно вздыхает.
"Ты знаешь, последнее время думаю о звёздах. Вот зачем они?.. Если так далеко, если их потрогать нельзя…"
Я как-то машинально отвечаю: "Ну если звёзды зажигают, значит это кому-нибудь нужно…"
Он посмотрел на меня задумчиво, губами пошевелил, словно стихи намечал.
Я пристально смотрел на него.
Он улыбнулся: "Не знаю, кому нужно, чтоб они так зажигали, звёзды-то. Вчера в Элэе был. Бог ты мой, как там одна зажигалa! Как её… Джулия Робертс, вот! Просто как уличная… актёрка! И убедительно! Звезда, что сказать!"
"Юлия Вальтеровна девушка яркая, да. Только роли своей не сыграла пока".
"Думаю, после той пати ей предложат её главную роль, обязательно. Там был Мейерхольд. Смотрел на неё фантасмагорично и мне подмигивал".
Мы немного помолчали.
"Так вот, сюжет. Представь, что на космическом корабле сошёл с ума бортовой компьютер. И возомнил себя центром вселенной. И вот губит он постепенно весь экипаж, а последнего астронавта заманивает в самые дебри Юпитера. А там – гнездо странной цивилизации. Негуманоидной. И начинается… Просто мне сэр Артур Кларк недавно свой новый роман пересказывал. Я сразу подумал: экранизирую!"
Он подошёл к столу, собирался сесть на стул, но вдруг глаза его залил ужас.
Маяковский от стола отпрянул, метров на двадцать.
Я смотрю удивлённо.
"Что это вы, Владимир Владимирович!"
Маяковский пробормотал, испарину со лба утирая: "Булавка у тебя там на столе. Убери. Не люблю".
Я поискал и нашёл.
Действительно, английская булавка, закрытая.
Я плечами пожал и убрал её в карман.
Он успокоился, вернулся к столу, на стул сел.
Молчит, понимает, что неловкость вышла.
Вдруг просиял и говорит: "Я Михалкова спросил вчера: "Дядю Стёпу с меня накатали-с, Сергей Владимирович?"
Я улыбнулся.
"И что тёзка ответил?"
"Говорит: мания величия у тебя, Вова, с твоими ста восьмьюдесятью девятью-то. Отстань, говорит, некогда мне лясы точить, гимн Венеры заказали, тружусь. Двенадцать вариантов сделал, а не доволен. Двенадцать – мощное число, да? Может Блоку предложить? Он любит такое, пусть развлечётся. А то всё про Старый мир какой-то пишет, грустит. Насчёт сценария на "Мосфильм" заезжай. Я продюсер и роль сыграю. Родченко художником-постановщиком будет, Курёхин музыку сочинит".
"А режиссёр кто?"
Он подбородок почесал: "Мейерхольда хотел, но он новую пьесу Гоголя будет ставить в театре. Про оживший скафандр. Действие на станции КЭЦ. Потом Тарковского хотел, но он "Гамлета" запускает, добился таки верхнего финансирования. Им дали несколько миллионов ракушек каури, миллион золотых монет и три миллиона серебряных. Их с Уиллом теперь от компа не оттащишь".
Я удивляюсь: "Это что ж, ему сам Уильям Иваныч сценарий пишет?"
"Колоссаль! Я читал куски! А саундтрек Бах сочиняет! Серёня, вот где божественная музыка, нечеловеческая, нереальная! Какой там на фиг Бетховен!"
Он взволнованно подышал, ушёл в себя, помолчал минут двадцать, очнулся от кукованья моей кукушки, снова меня увидал и говорит: "Так что, насчёт режиссёра не знаю пока, может Кубрика выцепим. Хотя… Есть ещё одна идея, попроще. Но болит как-то. Ты же знаешь, я недавно музу себе нашёл в Малаховке?"
Я киваю: "Конечно. Про Лилю Юрьевну разве что ленивый не знает".
Он улыбается и в карман лезет.
"Вот, колечко купил. Из лунного серебра. Дорогущееее!.. И гравировку сделал. У нас круглая дата, тринадцать дней!"
Он показывает колечко, я смотрю, там вырезано изнутри: "Люблюлюблюлюблюлюблю…"
Он смотрит на меня торжествующе.
Я смотрю удивлённо.
Он брови хмурит.
"Ты не понял, Серёжа. Это инициалы, уходящие в бесконечность. Лилия Юрьевна Брик. Люб, люб, люб… Понял?"
Я понял. Кивнул.
Он кольцо убирает в изящную коробочку из марсианского бриара и говорит: "Так вот, второй сюжет. Живут трое. Двое мужчин и одна женщина. Все друг друга любят. Ну, в смысле, обе любят её, а она – любит обоих… Ну и как-то у них там всё это сложно. Понял меня? Надо будет с Осей поговорить, с её бывшим мужем… Он что-то подзадержался в доме у нас, пора б ему уже съехать…"
И загрустил Маяковский.
Я говорю осторожно: "По-моему, первый сюжет интереснее. Про негуманоидов. Человечнее как-то".
Он долго смотрел в окно, потом вздохнул.
"Это точно. Его и возьмём. Тем более, чувствую, какие-то похожие процессы в мире творятся…"
Я недополнял: "О чём вы?"
Он загадочно и печально улыбнулся: "Не знаю… Так, что-то вдруг… Ты, брат, главное сценариум крутой напиши. Ты сможешь, знаю".
Маяковский бодро поднялся со стула.
Хлопнув меня по плечу так, что я ушёл в пол по колено, поэт и продюсер сделал шаг к двери и исчез. Чуть дверь с петель не сорвал.
"Вот чумной! – думал я ворчливо, паркет свой гуттаперчевый разглядывая. – Кубрик… Вряд ли, он вечно занят… Думаю, придётся с нашими… Вон хоть с Германом. Со Стругацкими у него вышла странность, конечно, кино про Румату у него дальше от первоисточника, чем у Тарковского от Рэдрика Шухарта, но ведь – режиссёрище!"
"Про Германа я уже думал, – уже с улицы откликнулся мысленно Маяковский. – Но передумал. Больно мрачен он последнее время…"
И отключился.
Вылез я из пола и сел сценарий набрасывать.
Умеет же, ураган, замотивировать.
ALL RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT ©2016 Sergei Burtiak
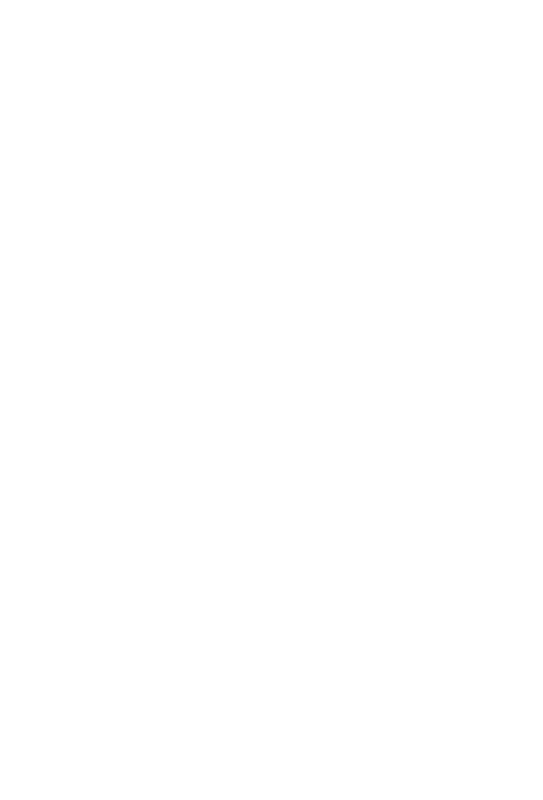
Пушкино, 1924 год
и роботам, а также о неясных тревожностях, творящихся в мире
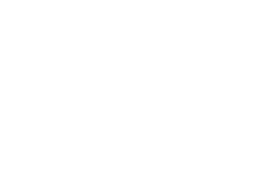
Паровоз его персональный, уникальный, с единственным вагоном на прицепе, на всех парах к моему дому над Москвой мчащий, я увидел с террасы. Графский поезд притормаживал в воздухе, выдыхая обильный пар и делая погоду в центре города облачной. Терраса под моими ногами услужливо превращалась в перрон, принимая к себе эксцентрический транспорт. Зазвучал невидимый репродуктор, сообщая о прибытии кого-то важного: слов было не разобрать, но тон был торжественный.
Откуда ни возьмись, на перроне появились два человека в костюмах, беретах и с киноаппаратом на деревянном треножнике, установили камеру и начали бойко сымать. Паровоз замедленно и увесисто прибывал, пока не остановился совсем, выпустив откуда-то из-под колёс последние клубы пара. Люди в беретах перестали снимать, забрали камеру и скромно уселись на чугунную лавку у стены, приветливо помахав мне снятыми беретами.
"И как всегда, прибытие снимают неугомонные братья. Впрочем, они тут ни при чём, просто не может граф без еффектов…" подумал я с внутренней улыбкой.
Я гостеприимно кивнул Люмьерам и пошёл к вагону, улыбаясь и раскидывая руки, гостя встречая. Дверь вагона открылась, сама собой к перрону опустилась бронзовая подножка из трёх ступеней. В проёме появился Лев Николаевич. Величественно сошёл на перрон, и мы обнялись.
Из окна вагона выглянул бородатый длинноволосый Николай Николаевич Ге. В руках держал палитру и кисть, а лицо было вымазано масляной краской. Он приветливо помахал мне палитрой, печально вздохнул, пожал плечами, дескать, работа, и пропал из окна. Я на него не обиделся. Сложный человек, гениальный.
Пока мы проходили в гостиную, перрон опять стал обычной террасой.
В гостиной Толстой осмотрелся, удовлетворённо кивнул, расположился в вольтеровском кресле, и смотрит сурово и строго.
"Сергий, – спрашивает, – ты вообще к поездам как относишься?"
Я говорю: "Так хорошо отношусь, Лев Николаич. Раньше часто в Одессу ездил, сутки, а не уставал-с…"
Он поморщился: "Довольно подробностей. Пушкину расскажи. Или Гоголю. Они Малороссию любят. А мне лучше ответь, имя Анна как тебе?"
Я воздуху набрал и говорю: "Так прекрасное имя! Вот помню, в одна тыща…"
Он руку поднял в знак затыкания, бороду огладил, губы пожевал задумчиво.
"А про Ивана Ильича как тебе рассказ мой?"
"Очень сильный рассказ! И Кайдановского фильм по рассказу вашему мне премного понравился".
Он кивает солидно: "Да, изрядную Сашка фильму заснял. Мне тоже ндравится. Суть уловил. Вот думаю новый роман ему предложить экранизировать".
Я интересуюсь: "Войну и мир", что ли?"
Он головой качает отрицательно.
Я удивляюсь: "А какой? "Воскресение", или про детство-юность?"
Толстой усмехается: "Эк ты любопытный какой! Не гадай, всё одно не допетришь. А я пока не скажу. Потому как роман не написан, ты о нём и примерно не знаешь. И что замыслил, тебе не поведаю".
"Ну и ладно, ваше сиятельство, ничего-с, подождём-с, мы не гордые-с".
Он смотрит, глаза щуря: "О, засвистел!.. Не сердись. Не хочу замысел расплескать. Обещаю, как большую часть напишу – тебе покажу раньше издателя".
Я ладонь благодарно к сердцу прикладываю.
А он продолжает: "Фантастику любишь?"
"Смотря какую. Тупую – нет. Фэнтэзи тоже не очень. Кроме Толкиена, разве. У Охлобыстина, помню, был роман симпатичный. Научную люблю, да. Философскую, социальную, не слишком явную, фантастику Достоевского и Гоголя обожаю, ещё…"
Он прокашлялся громко, и я умолкнул.
Толстой говорит: "Мыслишка пришла. Сам-то я с фантастикой не больно дружу. К тому же с Софьей опять конфликтую, сейчас не до лёгких вещиц. Решил ей "Крейцерову сонату" выдать, новую жёсткую штуку, чтоб не нахальничала, место своё женское знала. Ну и роман новый тож – в назидание. А фантастика что ж… Последнее время странное чувствую. Как будто какая-то ложная память. Вот вчерась вспомнилось, как мы в гостях у Фета, чуть было с Тургеневым дуэль не устроили. А после того семнадцать лет враждовали. И непонятно это всё… То ли было, то ли не было, и я это вроде как выдумал. Но плотно так, обстоятельно, как будто реальные, понимаешь ли, воспоминания. Наваждение. Как есть, наваждение… И главное, ни Тургенев, ни Фет ничего такого не помнят. Получается, не было?.."
Я только бормочу: "Помоги Господи…"
"Ты чего там бормочешь? Молишься, что ли? – усмехается Лев Николаевич. – Так можешь вслух. С меня анафему-то лично Миша снял, после войны. С Высшего дозволения, разумеется. И в гости наведывается. Коля, вон, Ге, совместный наш портрет завершает. Умаялся, говорит, достало по заказу писать. Но молодец, терпит. Потому как дело святое. Так что, не бойсь, Сергий, не спалит меня молитва твоя!"
И хохочет.
Я говорю чуть смущённо: "Строги вы, Лев Николаич, с Софьей-то Андревной".
Он зубом цыкнул: "Оставим это. Лучше со своим разберись. Слыхал я про твои амурные неурядицы. Слабак ты. Не вышло с одной, выйдет с другой, третьей, пятой, десятой. Женщины – они как капли в дожде. Понял меня?"
"То-то у вас дождь всю сознательную жизнь из одной капли состоит..."
из одной капли состоит...
И прокашлялся. Я с облегчением вздохнул – исчерпана тема.
"Поклон Софье Андреевне передайте! И простите, что перебил вас. Про фантастику вы что-то начали…"
Он улыбнулся удовлетворённо и говорит: "Ну так вот… Сюжетец фантастический думаю презентовать кому-нибудь. Интересно тебе?"
Я осторожно киваю.
Он говорит: "В Старом мире действие происходит. Представь, что на планете Марсе живут люди. Не наши, как сейчас, а свои, марсиянские. Но похожие на землян. И летят на ентот самый Марс двое наших мужей. Инженер и махновец. И там начинают якшаться с марсиянами. А среди тех имеется прекрасная юная дева-аристократка по имени Эвита… Ну и любовь у главного героя, у инженера, с ей начинается. А он до этого жену на Земле потерял и полёт на Марс для него как бы бегство… Подробностей пока не придумал, но что-то грустно-героическое должно быть. Сам писать не стану. Хочешь – пиши".
Я головой качнул: "Нет, Лев Николаич, я не возьмусь. Спасибо, конечно, вам за доверие, но не возьмусь".
Он смотрит почти враждебно: "Не ндравится?"
"Дело не в этом. Очень много у меня своей писанины. Боюсь, подведу вас".
Толстой смягчается: "А что посоветуешь? Кому подарить? Может Горькому?"
Я головой качаю: "Сомневаюсь я… А что ж Алексей Николаичу-то не предложите? Толстому. Он же родственник ваш. Роман недавно издал симпатичный. "Гиперболоид инженера Гарина".
Он подумал немного, вздохнул.
"Бастард он, поговаривают… Хотя… писатель изрядный. За идейку спасибо, подумаю".
"Да не за что, собственно. Понадоблюсь – заглядывайте. Если уж решите категорично не Алексей Николаичу идею дарить, будем что-то придумывать. Можно с Беляевым поговорить. Мировецкий у него "Человек-амфибия" вышел. В том смысле, что Ихтиандр – прям мирового уровня персонаж! Несмотря на россказни злопыхателей".
Он скривился неодобрительно: "Беляев этот кто таков? Не тот ли, что про голову Гоголя накалякал? Я Николая полдня пустырником отпаивал в Ясной Поляне, отговаривал идти физиономию бить наглецу".
Я встревожился.
"Боже упаси! У Беляева "Голова профессора Доуэля", хороший роман, грустный, трогательный".
Он успокоился: "А-а-а… Не читал. Почитаю. Тогда и решу, кому идейку отдать. А Стругацкие не возьмутся?"
Я плечами пожал: "Предложи́те… Но что-то мне подсказывает, – не возьмутся оне. Самих от идей распирает, едва поспевают. Да и не в их стиле сюжет…"
Он несколько волосков из бороды вырвал (мне даже почудился тоненький звон, на грани ультра), что-то пробормотал неразборчиво, по-арабски, мне показалось.
Потом говорит: "Есть же ещё Лагин. Лазарь. Пойду-ка я к нему схожу, почву пощупаю".
Я палец большой вздымаю: "Лазарь Иосифович прекрасный писатель! Поклон ему. Обещал зайти, да никак не дойдёт до меня. Говорят, сказку надумал писать".
Толстой кивнул задумчиво.
"Всё, Сергий, засиделся я у тебя. Работа стоит. Сценариум для Ханжонкова сочиняю. Тяжко идёт. И как ты это пишешь, в ум не возьму… Но вот решил и я написать для синематографа. Ведь кино понятно огромным массам, притом всех народов. И можно написать не четыре, не пять, а десять, пятнадцать картин… – Толстой поднялся, толстовку расправил под ремешком на животе, сапогами проскрипев "Марсельезу". – Пойду к Лагину, а потом Фёдора найду, в городки сразимся. Интересно с ним, азартный, шельмец! Заодно про преступления и наказания выспрошу. Для сценариума. Привет-то передать от тебя или как?"
Я встрепенулся: "Всенепременно, Лев Николаич! Фёдор Михалычу обязательно!.. Хоть и был тут недавно, но передайте нижайший…"
Он не дослушал: "Вот ещё что… Мне вчера Дант позвонил. Говорит, тревожишься ты, Совет просишь собрать".
"Ну да, есть такое. Какие-то странные вещи стали происходить…"
Он перебил: "Знаю, он передал. Тоже встревожен. Мотается в Аид, департамент Вергилия инспектирует. Так что скоро насчёт этих писем Пушкину и Лермонтову всё выяснится. А ты волну не подымай пока. Поглядим".
"Как скажете, Лев Николаевич. Старейшинам, конечно, видней…"
Он недоверчиво на меня поглядел и сказал тоном артиста Яковлева: "Да уж конечно". Потом велел не провожать, крякнул, бодренько так, ушёл на террасу-перрон. Я вышел за ним. Граф поднялся в свой паровоз, выглянул из окна, произнёс: "Андрей Платоныч паровоз придумал и описал. Гений. И в том, и в другом".
Андрей Платонович с большим гаечным ключом в руках стоял возле паровоза и заворожённо смотрел на огромные колёса. Увидев, что граф уже на месте, махнул мне рукой, улыбнулся застенчиво, в кабину влез и запустил свой аппарат.
Лев Николаич совсем уж напоследок сказал в клубах пара: "Всё разнообразие, вся прелесть, вся красота жизни слагаются из тени и света. Запомни это, Серёжа".
И улетели они на волшебном монстре из фантазий Платонова.
Братья Люмьер сняли убытие гениального поезда.
Тут и роботы мои появились. Граф Толстой, я знаю, роботов вообще недолюбливает почему-то, вот мои без надобности и не высовывались.
Сегодня роботы были садовником и мальчиком-хулиганом.
Они принесли нам домашнего вина и бургундских улиток.
Вино разливали из садового шланга.
Хорошо мы с братьями пообщались, поболтали за мировой кинематограф.
А когда они ушли, я ещё долго сидел на террасе и думал: а на самом-то деле Лев Николаевич для чего приходил?..
ALL RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT ©2016 Sergei Burtiak
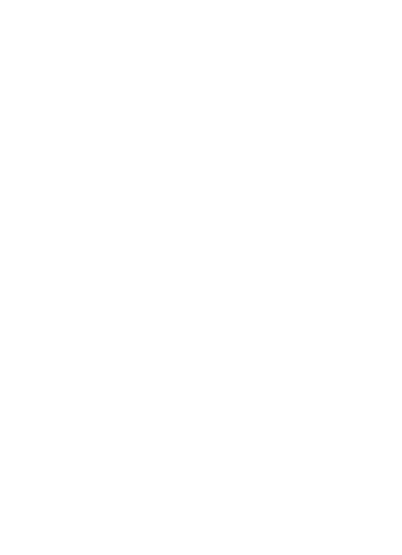
Походил нервно по гостиной, усы повыпячивал азбукой морзе, на краешек дивана сел и говорит: "Нас повело неведомо куда. Пред нами расступались, как мира́жи, построенные чудом города, сама ложилась мята нам под ноги, и птицам с нами было по дороге, и рыбы поднимались по реке, и небо развернулось перед нами… когда судьба по следу шла за нами, как сумасшедший с бритвою в руке".
"Андрей Арсеньич, опять вы стихами отцовскими заговорили… Проблемы какие-то?" – спросил я аккуратно.
Он горько усмехнулся, головой повёл элегантно и давай в камин смотреть.
А из камина вдруг голос в сопровождении хоральной прелюдии Баха: "Мне моего бессмертия довольно, чтоб кровь моя из века в век текла".
Андрей поморщился: "Пап, ты опять начинаешь?"
"И это снилось мне, и это снится мне, и это мне ещё когда-нибудь приснится, и повторится всё, и всё довоплотится, и вам приснится всё, что видел я во сне…"
Я к камину подошёл, наклонился почтительно и говорю: "Арсений Александрович, вы бы зашли, а то неудобно так, через камин разговаривать".
Из камина донеслось: "Спасибо, Серёжа, в другой раз непременно. Вы простите, что без предупреждения подключился. За сына тревожусь".
Андрей Арсеньич опять поморщился: "Папа, я здесь вообще-то! Что ты в самом деле, как тень какая-то…"
Голос из камина спросил: "Сергей, вы в курсе, что Андрей начинает "Гамлета?"
"В курсе. Маяковский сказал".
"А вы знаете, кто пишет сценарий?"
Я говорю: "Да. Шекспир".
В камине помолчало, прокашлялось, и вдруг Арсений Саныч нараспев произнёс: "На свете смерти нет. Бессмертны все. Бессмертно всё. Не надо бояться смерти ни в семнадцать лет, ни в семьдесят. Есть только явь и свет, ни тьмы, ни смерти нет на этом свете".
Андрей встал с дивана и нервно заходил по комнате: "Папа, это понятно! И это старые стихи! Они уже были у меня в "Зеркале"! А я просил новых!"
Камин помолчал, потом прокашлялся.
"Я пробую. Советуюсь с Уиллом. В одной эстетике со сценарием они должны быть. Ладно, пока, сын! Серёжа, пока! Не пейте много".
Я к камину склонился: "До свидания, Арсений Альсанч! Вдохновения вам!"
Камин печально вздохнул, сказал "спасибо" и отключился.
Я посмотрел на Тарковского-младшего. Почему-то ему было неловко. Как будто папа рассказал его девушке, как он писался в штаны в среднем детстве.
"Ему нравится изображать тень отца…"
Я вздохнул: "Да я понял… Переживает за вас".
Тарковский поморщился. Не любит он сентиментальностей этих.
"Гофманиану" закончил, сведение вчера было. Эрнест хочет премьеру в Германии устроить. Чует "Берлинского льва".
Я брови вскинул: "Гофман? Ух ты как! А я ведь сценарий ваш с упоением когда-то читал!"
Он улыбается.
"Кино ещё лучше. Всё удалось. И Гофман такой у меня… Юри Ярвет сыграл. Григорий Михалыч материал видел. Сказал, что изрядней его "Короля Лира" вышло".
Я медленно кивнул со значением.
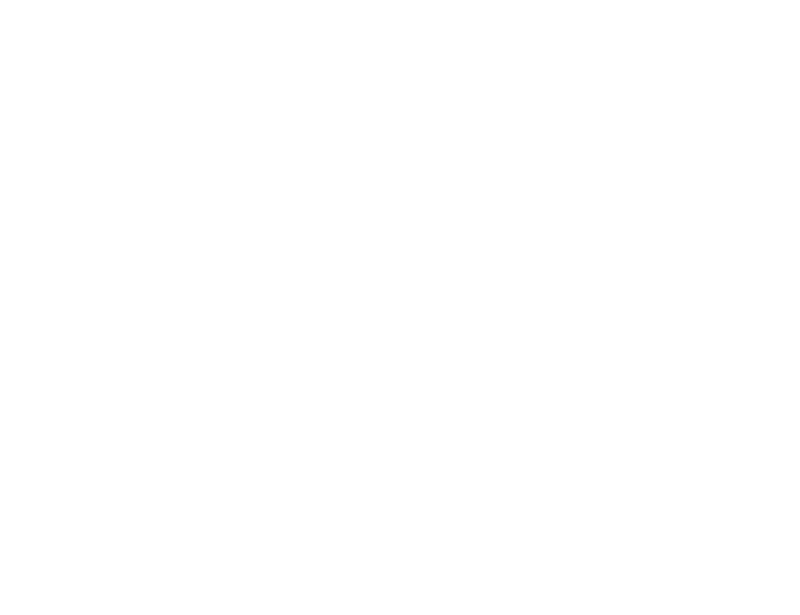
Андрей начинает "Гамлета?"
"Да, пьеса великая, что говорить. А принца кто сыграет у вас?"
Тарковский чуть поморщился: "Ярмолай просится".
Я с трудом подавил улыбку.
Он на меня смотрит остро: "Что сдерживаешься? Поржи. Я поржал".
Мы поржали.
"Кайдановского хотел".
Я обрадовался: "Вот хорошо! Алексан Леонидыч прекрасный Гамлет! Не хуже Смоктуновского и Камбербэтча. Даже лучше, я думаю".
Тарковский снова сел.
"Да в том-то и дело… Саша запустился с картиной по Касаресу с Борхесом. Как режиссёр. Его год не будет".
"Слушайте, Андрей Арсеньич, сходите к Уэллсу. У него ж машина времени в сарае стоит, говорят. Или к Стругацким, у них…"
Тарковский перебил: "Машина желаний, шар золотой, знаю… Ходил. К Стругацким – ходил. Сломалась она, не работает".
"Как так?.. – расстроился я. – А мне как раз надо было…"
"Разладилась, да. Всю проницательность растеряла. Чорт-те что выполняет. Я сделал запрос на Кайдановского, она мне Безрукова выдала, а потом Петрова какого-то. Вышли неловкости. А насчёт Уэллса – это ты ярко придумал! Знал я, что надо к тебе заглянуть! Правда, есть у меня и другая мысль, Толю Солоницына взять… В общем, не знаю пока… Насчёт Офелии долго думал. Сперва немножко про Валю Малявину, но потом узнал, что её Кайдановский надолго ангажировал в свою трилогию по Борхесу и Касаресу… А недавно понял, кого вижу в этой роли, и это единственное решение… – он помялся. – Одри хочу утвердить. Без проб. Ты как смотришь?"
Я глаза отвёл: "А я-то что?.. Одри Викторовна актриса сильная. И типажно подходит", – и решил скоренько перевести разговор в другое русло. – Я вам не рассказывал, как ещё в Старом Мире, по студенчеству, мы с друзьями устроили спиритический сеанс и ваш дух вызывали? Нас было четверо. Один предложил, мы нарисовали на ватмане круг с буквами, на блюдечке фломастером стрелку начертали, свечи позажигали. Не помню, может какие-то заклинания говорил тот, в спиритизме шарящий товарищ… Торжественно произнесли: "Вызываем дух Андрея Тарковского!" И задали только один вопрос, когда блюдечко шевельнулось: "Андрей Арсеньевич, чем вы сейчас занимаетесь?" И стали за блюдце держаться пальцами легонько. Блюдечко сдвинулось с места и поползло стрелкой по буквам. Остановилось трижды. На буквах "Д", "Е" и "Ю". Получилось "дею". Вряд ли кто-то из нас, двадцатилетних, тогда мог знать это слово, чтоб так сжульничать…"
Тарковский тонко улыбнулся.
"Я это помню. Вы меня тогда позабавили. А я и правда деял, сценарий писал… Гоголевскую "Шинель" хотел снять. Странное было время, там, в смерти…"
Он немного помолчал.
"Вообще какая-то особая связь между нами присутствует. Ты это чувствуешь?"
Я кивнул. Сам об этом думал недавно.
Он продолжил: "Вот и в том доме, где я прожил пять лет, ты тоже жил… До самого конца Старого Мира… Это ведь там всё с "Книгой" случилось?"
"Да… И Николай Васильич ко мне туда пришёл, в тот наш двор… Он, правда, почему-то сначала вашу квартиру искал, в подъезде напротив… Кстати, мне недавно Мастрояни рассказал эту историю, как он к вам с Карло Понти приехал".
"Да, мебели у нас там почти не было, мы с женой постелили ковры на пол и приняли итальянцев в восточном стиле. При этом была водка, икра и так далее… Понти не понравилось. Ну понятно, фамилия вполне говорящая… А Марчелло был в диком восторге и потом рассказывал Феллини о моей экзотической эксцентричности. Хорошие времена… Есть у меня ностальгия по Старому миру…"
Тарковский помолчал.
"А когда ты там жил, я уже… Нет, я попозже пришёл, воскреснув, и сразу на Мосфильмовскую… А надо было к тебе… Да… Ну что, ничего не бывает просто так…"
Тарковский ещё помолчал, потом посмотрел на меня с хитрецой.
"Это ты сейчас мне или себе зубы заговаривал спиритизмом да двором нашим любимым?"
Я с улыбкой на него посмотрел и промолчал.
Он вздохнул: "Хотя, про двор это я начал… Не грусти, всё наладится".
Руку мне на плечо положил, вздохнул и ушёл.
А я подумал, чтобы отвлечься: не читал, видно, Андрей Арсеньич Гаррисона, как американцы кино про викингов снимали. А то про машину-то времени сам сообразил бы. А ещё про Одри подумал. Не видать мне её теперь, как своих ушей. Странное выражение… Мы ведь можем свои уши видеть. В зеркале, например, или на фото… Хотя, правильное выражение… Только так и можем, на фото…
И сел я у окна смотреть на Москву и слушать "Страсти по Иоанну".
В небе проплывал дирижабль, похожий на огромного белого кашалота.
Я подумал: "Неужто Мелвилл?"
Если он, то зайдёт обязательно, это я точно знал.
С ним бы я хотел пообщаться, давненько не виделись.
ALL RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT ©2016 Sergei Burtiak
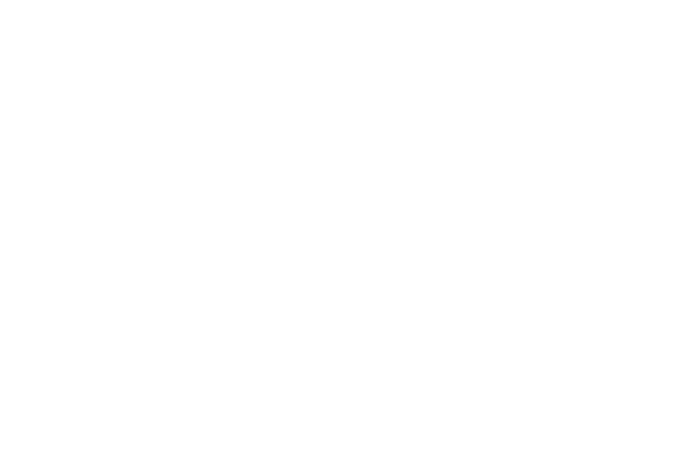
Ни тьмы, ни смерти нет на этом свете.
Арс.Тарковский "Жизнь, жизнь"
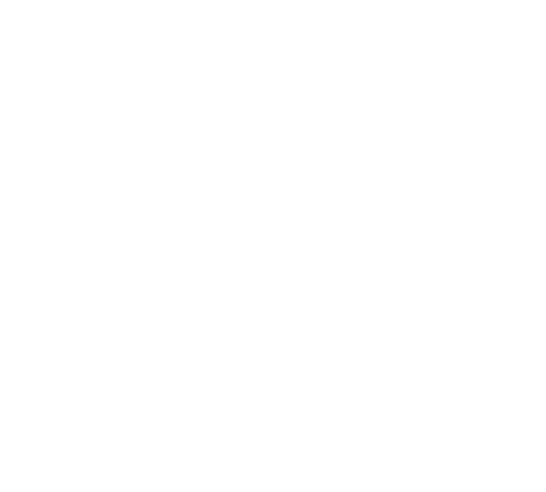
Смотрят на меня, улыбаются.
Марк кудряв как всегда и растрёпан, у Винсента перевязано ухо.
"Моя работа похожа на работу сапожника. Я верчу некоторые картины, как сапоги", сказал Шагал, вращая в руках какое-то полотно в красивой сдержанной раме.
Что это за картина, понять было нельзя, сплошное вращение красок.
Ван Гог свою картину не вращал, спокойно держал в руках.
Но она была покрыта куском тонкого чистого холста.
Я руки раскидываю, чтобы их обоих обнять: "Дорогие мои! Мовша Хацкелевич, Винсент Фёдорович! Как же я долго вас ждал! Зову-зову, а вы всё не идёте и не идёте".
"Ну вот мы и зашли-зашли!" кричит Ван Гог и смеётся.
И Шагал смеётся.
И Пушкин мой серый смеётся. Он как раз из Одессы недавно вернулся.
О, майн кот!
И роботы тоже смеются.
Сегодня один из них, с самого утра причём, выглядел козою со скрипкой, а другой – художником на пути в Тараскон. Гостям их вид понравился, и они ещё посмеялись.
"Серёжа, мы решили сделать тебе подарки ко дню рождения!" вскричал Шагал.
Вот те раз, про день рождения-то я и забыл…
Они смотрели на меня удивлённо. Видимо, я хлопал глазами.
Они поняли, что я забыл, но акцентировать на этом не стали.
Шагал только пробормотал еле слышно: "Мы рано зашли, извини… Похоже, тебе ещё не напомнили… В смысле, мы напомнили, антшулдик…"
Винсент сделал шаг в мою сторону.
"Серж, я тебе хочу подарить одну из моих любимых картин. Вот".
Ван Гог снял холст с холста, и я увидел картину.
"О май гад! Это же "Художник на пути в Тараскон"!" воскликнул я экспрессивно, а сам подумал: во-первых надо прятать от Альфонса Доде а во-вторых это уникальное полотно предположительно погибло при пожаре во время Второй мировой войны в Старом мире и вот теперь оно здесь у меня чудеса…
Пока я думал, Шагал прекратил вращать полотно и тоже показал его мне.
Я увидел перевёрнутую вверх ногами картину "Красный петух в ночи". Мой любимый синий шагаловский цвет, коза со скрипкой, Одри и я… Боже мой, сегодня удивительный день!
Мне стало грустно и светло одновременно.
Художники смотрели на меня с удовольствием и улыбались. Они были довольны эффектом. Шагал вдруг увидел, что держит картину вверх ногами, смутился и перевернул.
"Лучше смотреть так".
Потом мы дружно повесили картины в гостиной. Роботы помогали.
Пушок был в диком восторге. Картины увидал, разошёлся: мяукал, рычал и пытался немедленно стать гениальным художником. Пришлось отправить его ненадолго обратно в его комнату.
Роботы стали собирать на огромный стол. Одному даже пришлось сгонять в магазин, у нас не оказалось сельди для форшмака и нута для хумуса.
Периодически мне звонили и присылали сообщения.
Началось. Айфон, камин, телефон, граммофон… Я едва успевал отвечать. Ван Гог и Шагал переглядывались, но не уходили, проявляя чудеса терпения. Они бродили по квартире, приглядывались к окнам, к посуде и перешёптывались. Потом воспользовались паузой и подошли ко мне.
"Серёжа, мы решили сделать тебе ещё несколько подарков. Как ты смотришь, если мы зафигачим тебе витражи, мозаику, шпалеры и посуду с нашими росписями?"
От неожиданности я оторопел.
Ван Гог спокойно продолжил.
"Начнём с витражей. Предлагаю половину окон сделать с пейзажами. Только не моими, а новыми, твоими. То есть, старыми, но твоими. Пейзажи твоего детства. Смотри, вот эскизы…"
Он прямо из воздуха достал большую папку и выложил на стол несколько эскизов. Это были деревенские и городские пейзажи моего детства, написанные Ван Гогом.
"Но откуда вы это узнали?.."
Я был в шоке.
на работу сапожника.
Я верчу некоторые картины
как сапоги
Между тем Шагал деловито выложил на стол несколько своих эскизов.
"С пейзажами ясно. Теперь смотри… "Над городом" и "Невеста". Думаю, их взять за основу. У "Невесты" множество вариантов, – вот их все, помимо основного, я и сделаю на другой половине твоих окон, мой дорогой. А "Над городом" написать, признаюсь тебе вот сейчас, вы меня с Одри Викторовной вдохновили. Иду я как-то по Риму, смотрю – а вы медленно в воздухе проплываете. И не видите никого, как будто вы вообще одни в целом мире. Там ещё Тарковский прогуливался. Он тоже поразился и сказал: "Это я обязательно где-нибудь сниму, обязательно. И, возможно, не раз". Мы, кстати, потом с Бэллой попробовали в Витебске так полетать. Получилось. Так что, спасибо тебе, Серлас Витальевич, за вдохновение".
Я смутился. Да что ж за день-то, сплошные смущения!
"Мы тогда только познакомились… С Одри, я имею в виду…"
"Значит ты не против! Прекрасно!"
Ответить я не успел – друзья мгновенно принялись за работу.
Невозможно в это поверить, но всё было готово через два с половиной часа. Когда Ван Гог и Шагал завершали роспись посуды, стали приходить гости. Конечно же пришли Бакст, Пикассо, прерафаэлиты, практически все импрессионисты, супрематисты во главе с Кандинским, отец и сын Уайеты, Малевич пришёл, Густав Климт, Жоан Миро, Нико Пиросмани привёл целую компанию своих наивных друзей.
Разумеется, пришли мои братья-писатели и братья-поэты. И не только Стругацкие и Серапионовы. Пришли Пруст, Джойс и Беккет, пришли Толстой с Софьей Андреевной, Цветаева с Петровых, Достоевский с Анной Григорьевной, Гоголь пришёл, Пушкин с Натали, Лермонтов с Варей, Набоков с Верой Евсеевной, Газданов, Гофман и Кафка, Сэлинджер, Фицджеральд с Зельдой, Хемингуэй почему-то с дочерью, Буковски с подругой, Томас Вулф тоже с девушкой, Булгаков с Еленой Сергеевной…
Режиссёры пришли: Тарковский с Феллини и Джульеттой Мазиной, Кубрик и Куросава, Земекис и Спилберг, Зонненфельд, Лукас, и ещё очень многие, и ещё бесчисленные артисты и артистки, музыканты и композиторы. Франсуа де Рубэ, например. Невозможно просто всех перечислить.
Было весело. Пили шампанское, говорили, шептали, кричали небанальные тосты. Все резвились, кто-то предложил сделать хумус в шоколаде и хумус со шкварками. Роботы сделали.
Потом мы купались в Москве-реке, чистейшей, лазурной.
Потом приплыл Марк Твен на колёсном пароходе и забрал всех кататься.
Часа через три мы вернулись обратно, но уже не все.
Это был чудеснейший день. Но это был и день ожидания. И с каждым часом мне становилось всё более грустно.
А когда все гости ушли, я расстроился окончательно.
Я люблю своих друзей, но всех, без раздумий, променял бы на одну единственную девушку во всём нашем мире.
Одри написала лишь в полночь.
Сообщение с тоненьким протяжным звоном прилетело в камин.
Оно было коротким и невнятным: "Поздравляю. Люблю. Одри".
Я попытался ей позвонить, но она не ответила.
В гостиной было непривычно тихо. Роботы закончили уборку и ушли отдыхать.
"И что это было? "Люблю. Целую. Зафод…"
Я сидел один на огромном диване, пытаясь хоть на чём-нибудь сосредоточиться. Но мысли ускользали. И не только мысли, но и чувства, и даже едва уловимые движения души, названия которым ещё не придуманы.
Но вот одна мысль затеплилась и постепенно сформировалась.
Я человек действия, и оно стало проступать из полупрозрачной мысли.
Теперь во всей моей квартире новые витражи. Они будут напоминать мне об Одри каждый раз, когда я попытаюсь глянуть в окно…
…первая бутылка из-под шампанского полетела в окно с шагаловской главной "Невестой". Надеюсь, Марк на меня за это не очень обидится.
ALL RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT ©2016 Sergei Burtiak
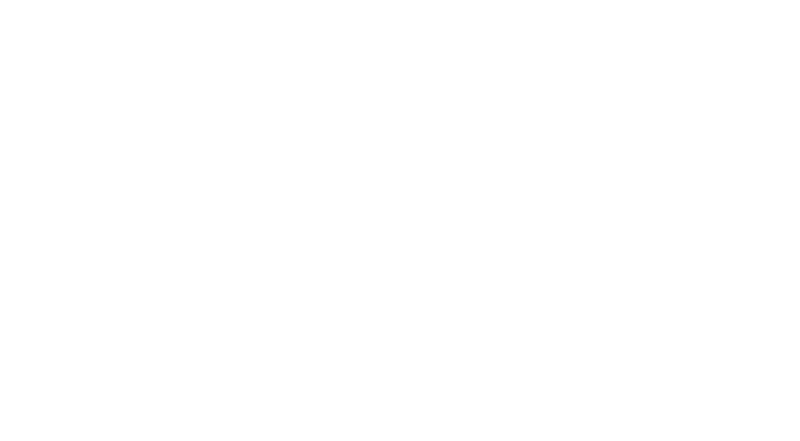
назван кратер на Меркурии
Спортивно так, и в облаке разноцветных голографических бабочек. И всё на нём цвета слоновьей кости: шорты чуть выше колена, теннисные туфли, классический лаун-теннисный свитер в косичку и с вырезом. На голове – опять же слоновьей кости хлопчато-бумажная кепочка.
"Серрёжа, – сказал он, мягко грассируя и глядя на меня с подозрением, – не был ли у тебя Достоевский на днях?"
"Нет, Владим Владимыч, он у меня давно уже не был", соврал я неумело.
Дела Совета мы особо не афишируем, а у Ф.М. с В.В. отношения так себе.
"О'кэй, – помягчел он, поставил в угол теннисную ракету и сачок, сел на диван, ногу на ногу закинул, белый с полосками носок высоко подтянул, почти под самое колено. – Вот ведь бесы крутят его… Что ты читаешь?"
Это он книжку заметил у меня на журнально-книжном столике.
Я ему книжицу подал и говорю: "Стивен Кинг. "Долорес Клейборн". Там одна женщина мужа своего убивает".
Он подумал немного и говорит: "Долорес, Долорес… Это как же уменьшительно-то… Лолита, что ли?"
"Да так, вроде-с".
Он опять помолчал.
"Ло-ли-та… Кончик языка совершает путь в три шажка вниз по нёбу, чтобы на третьем толкнуться о зубы. Недурно. Ло. Ли. Та. Ли. Та. Ли-та Грэй… Ло. Фло… Флоренс… Фрэнк Ляссаль… Ли. А-ли-са Ли-делл… Кэр-ролл… Льюис… Лью… Хью-берт… Хум… Берт… Вот ведь бледный огонь моих чресел! Занятно-то как, а? Что-то интересное наклёвывается!"
Я киваю радостно.
А он продолжает: "Но женщине мужчину убивать… моветон. Вера не одобрит. Наоборот разве… И ради чего-с?.."
Я плечами пожал.
Он рукой машет, потом говорит: "А ты что пишешь сейчас?"
Я отвечаю уклончиво: "Да так, романчик один… полу автобиографический…"
Он кивает: "Такое люблю… Вещи твои читал недавние. Про парня, у которого отец утонул, понравилось. Трогательная книга. Про кота – забавно весьма. Другие тоже…"
Я покраснел.
"Спасибо, Владим Владимыч… Я…"
"Оставь это! Я редко кого хвалю, но уж если хвалю – то всерьёз. И не для благодарностей точно".
Я кивнул, а он продолжает: "Ты Сашу Соколова читал? "Школа для дураков".
"Конечно читал! Сумасшедше гениальная книжка!"
"Именно! Удивительно обаятельная! – програссировал Набоков. – Трагическая! Трогательнейшая!.. Он, пожалуй, пишет лучше меня…"
Я деликатно промолчал, и Набоков продолжил: "Ещё мне Битов понравился. Особенно "Пушкинский дом". И "Фотография Пушкина". Мы когда с Пушкиным сидели недавно, – он меня просит комментарии к новому роману в стихах сделать, по-аглицки, – так я вспомнил про Битова. Сашка очень смеялся, когда я ему про фотографию эту дал почитать, финал особенно, со звукозаписью. Собрался даже Битову телефонировать, восхищение выразить".
Я посмеялся, отличная история.
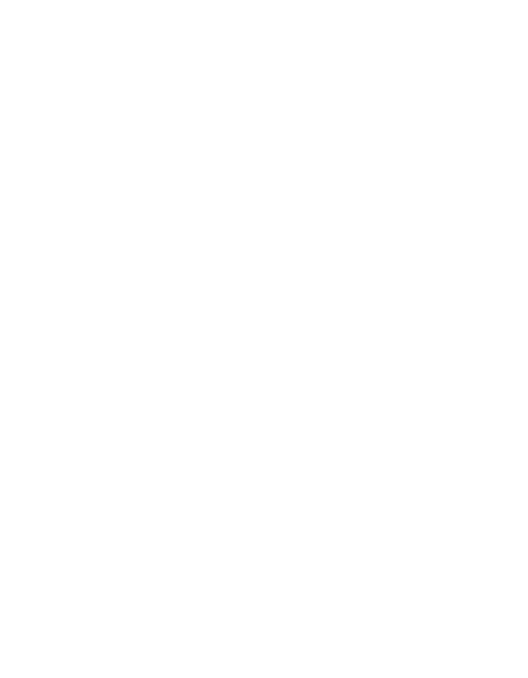
С. Соколов
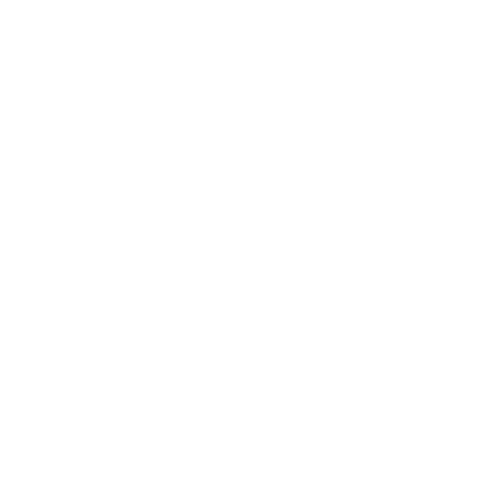
стоит в углу с копьем своим в руке,
и на местах все тридцать две фигуры
передо мной на шахматной доске".
В. Набоков "Рыцарь"
Я говорю: "Читал конечно. Прекрасный писатель".
Он смотрит слегка ревниво: "И что же, похож на меня, как считаешь?"
Я немного подумал: "Да нет, пожалуй. Другая у него проблематика".
Он палец поднял: "Вот! Терпеть не могу неумных литературоведов. Приписывают мне и Газданову сходство, едва ли не идентичность. И вот это ещё – "Роман с кокаином". Не писал я его. Я вообще наркотиков не приемлю. Ни в каком варианте".
Я кивнул энергично: "Вы правы абсолютно сейчас. Вот просто во всём!"
Он остался доволен моим ответом и успокоился.
"Задумался я вдруг о предшественнице фотографии – камере обскуре. Даже сюжет кой-какой забрезжил занятный и драматичный. О слепоте. Во всех смыслах. Вот консультируюсь с Аристотелем и c китайцами. К Дагеру было подумал за консультацией, а он стал меня в другую сторону тянуть. Дагерротип, говорит, – вот где таинственность! Представьте себе, говорит, Владимир, это ведь амальгама, снимок из Зазеркалья…"
Я говорю: "Интересно…"
Он посмотрел на меня задумчиво и говорит: "Интересно, да. Но у меня сейчас другие задачи. А про Зазеркалье может кто другой напишет, слишком уж это сказочно для меня. Ох уж, дела эти литературные… Я как "Дар" и "Лужина" опубликовал, Кафка всё пытается мне книжки свои навязать. "Превращение" я прочёл. Великая повесть! Мрачная, трагичная, честная! Об инаковости!.. И при всей фантасмагоричности, – реалистическая! За остальное его даже браться страшно пока, вдруг помешают процессу моему сильные тексты его, с дороги собьют. Опасаюсь. Я ему так и сказал: пока "Приглашение на казнь" не допишу, не буду тебя читать. Больно ты яркий. Он обиделся немного, но ждёт терпеливо".
"Франц Геныхыч вообще терпеливый, да".
Вышли мои роботы. Сегодня они выглядели Птицей Сирином и Белой Шахматной Пешкой.
Набоков посмотрел на них с лёгкой опаской, потом пригляделся внимательнее, пробормотал "а, это роботы", и успокоился.
Роботы принесли русский чай. То есть, молока на серебряных подносах не было, но зато лежали на фарфоровых блюдечках лимон и кусковой плотный сахар. А ещё изящные щипчики, чтобы этот сахар колоть, сушки с маком и прочие чудесности к чаю. Набоков, наблюдая за роботами, чуть-чуть похихикал.
Потом мы с ним почаёвничали.
Наконец Владимир Владимирович отвалился от стола, утёр рот льняной салфеткой и вздохнул: "Что-то мы с тобой, Серрёжа, всё о литературе да о литературе. Как будто других нет занятий. Шахматы твои знаменитые где? С живыми фигурами".
Я потупился и сознался: "Фёдор Михалычу подарил. Думал, может перестанет в карты играть".
Задышал он носом сердито.
"То-то я в ломбарде подумал, доска вроде знакомая… А фигуры в коробке, видимо, прятались… Ещё уговаривал себя, – мол, совпадение…"
Я понял, что надо срочно тему менять.
"Владимир Владимирович, как вам на новом месте?"
Он по-прежнему сердито смотрит.
"Оно не новое, а хорошо забытое старое. А вообще хорошо. Не отель, дом. В английском стиле. Да ты знаешь его, это старый наш дом на Большой Морской, тот, что был при папе. Единственное что… Сонечка де Сегюр по-соседству поселилась, решила тоже пожить в Петербурге. Из ностальгии. Она ведь там родилась, в Зимнем дворец крестили её когда-то давно, я смутно помню… Ты знаешь её? Она графа Ростопчина дочка".
Об инаковости!..
Но нет, пронесло. Набоков потихоньку выходил из своего лёгкого ступора. Не надо ему Старый мир помнить, нельзя. Потому что он, как сказал когда-то Пол Верховен, вспомнит всё. В том числе и гибель отца, после которой Набоков отвернулся от Бога, так до конца жизни и не поняв, как такое вообще было возможно в божьем мире.
Скоро Набоков вышел из ступора окончательно и продолжал: "Книжонки Сонечка пишет конечно убогенькие, сплошная вульгарная сентиментальность. И уж не знаю, с кем она сейчас живёт, с мужем своим Эженом или с кем-то другим, но практически каждый день у меня теперь начинается с бодрого утреннего троекратного "ура" маленькой Софико! Надеюсь, ей скоро наскучит Питер, и она вернётся в Париж. А то ведь трудно переносить такие всплески чувственности, не проснувшись ещё. Мысли всякие в голову входят-с…"
Он иронически улыбнулся.
Мы немного посмеялись, но сдержанно, как двое приличных мужчин, невзначай коснувшихся немного неприличной темы в беседе.
Постепенно улыбка сошла с лица Владимира Владимирович, и тон сделался сухим, как шираз.
"Впрочем, вы меня уже спрашивали о новом месте, сэр Серлас".
Он подышал немного, справляясь с нахлынувшим вновь раздражением, и говорит: "Вчера видел Стивенсона…"
"И как Роберт Томасович? Давно он не заходил".
Набоков нахмурился.
"Да как… Бежал с Самоа, из своего Пятиречья, поселился на маяке каком-то в Шотландии. Говорит, временно. И пишет престранную повесть про расщепление личности. Как в "Кто" у тебя, только жуть".
Я удивляюсь: "Неужто прям жуть?"
Набоков поднялся, по гостиной прошёлся.
Я и сам не пойму… Он читал мне фрагменты… Странное ощущение… Как будто не текст, а вино тёмно-виноградное мерцает в бокале. Кровавое чувство… Очень уж у него там злодей убедительный. Мистер Хайд. Выпуклый, как будто живой. Как бы не вышло чего…"
Я смотрю на него пристально.
"В смысле, чего?.."
"Больше ничего не скажу. Не знаю. Но чувства тревожные. Ты бы с Робертом повидался. Мне кажется, в депрессию он впадает. Не о себе ли пишет сейчас… А с Фёдором поаккуратней. Не балуй его, не потакай…"
Поднялся он угловато, в глаза мне не смотрит, ракетку с сачком забрал и ушёл. Обиделся видно немножко. Ничего, отойдёт.
Насчёт Стивенсона это он вовремя. Надо будет заняться…
Вдруг на окне пыльном я бабочку увидал, настоящую, живую, нежно-голубенькую, словно из моей далёкой юности. И откуда она только взялась?.. С его сачка, что ли? Странно это… Впрочем, пусть живёт, нимфетка этакая.
"Как же тебя назвать-то?.. Nabokovia?.. Нет, назову тебя Madeleinea Lolita".
ALL RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT ©2016 Sergei Burtiak
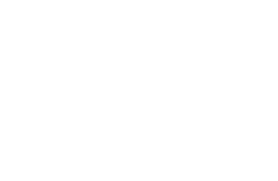
В. Набоков
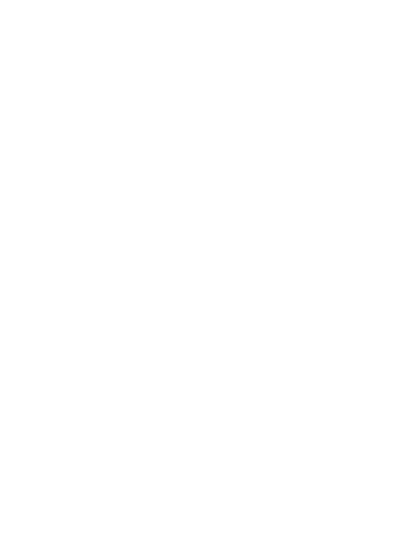
Художник: И. Левитан
Сел к столу деликатно, тросточку свою тонкую к столешнице прислонил, пенсне снял, глаза трёт.
Я говорю: "Антон Палыч, хотите карасей в сметане?"
Он головой покачал: "Только из "Яра", там отобедал. И как раз караси…"
"Так кумысу? Или чайку́?" я не сдавался.
Он глянул кратко: "Ты неправильно ударение ставишь, Сергей. Надо – "Ча́йку".
Мы посмеялись.
"Конечно хочу, всё никак дописать не могу. Уж и репетиции начались, а я всё с финалом тяну…"
Я пошёл ставить чайник.
А Чехов задумчиво говорит: "Замечательный день, то ли чаю выпить, то ли повеситься. Семечки есть у тебя?"
Я с подносом вернулся и отвечаю: "Ага, и висеть созерцательно, глазами похлопывая. Опять Сахалин на вас повлиял? Что-то вы туда зачастили…"
Он пенсне нацепил и смотрит по-доброму: "Вот Сахалин остров, а Крым – полу остров. А ведь не сравнить: ад и рай. И где справедливость? Да Крым не то что полуостров должен быть – континентом! Планетой!"
"Ну, правды нет и выше. Пушкин недавно сказал, мне понравилось. Хотя, Аксёнов и Крым за остров считает".
"Молодец Вася! Отдельный он мир, Крым-то".
Помолчали немного, полузгали семечек, потом он говорит: "Нет, не на Сахалине, значительно дальше. Я был в Поясе астероидов. Вот уж поистине, юдоль печали и стужи".
Я удивился: "Как на астероиды-то вас занесло?"
Он невесело улыбается: "Да так, знаешь ли… Сначала с первой космической скоростью оторвался наш корабль от Земли, затем…"
Я куксюсь: "Ну Антон Палыч…"
Он головой мотает: "Да просто всё. Меня пригласили сначала в столицу Пояса, на Цереру. Там администрация всё объяснила. На астероиде Румпельштильцхен решили оборудовать новую геологическую базу. И сделали. Несколько десятков астеровитян там поселилось. А потом выяснилось, что есть на астероиде, несмотря на отсутствие атмосферы, какой-то препротивный грибок. Ну меня и позвали".
Мне стало интересно: "И что за грибок?"
Он губами пожевал и вздохнул: "Нехороший. Странный. Живой. В том смысле, что ведёт он себя так. Как будто мыслит по-человечески. Или как кошка. Словом, порекомендовал я тамошним жителям его не трогать совсем. Просто они его поначалу в пищу удумали, ну и потравились все до диареи трёхмесячной".
Я головой качаю: "Надо же, странности-то…"
Он продолжил: "И так эта межпланетная пустота на меня, друг мой, подействовала, что остро захотелось жизни. Вот и думаю теперь комедию про сад написать, вокруг которого страсти человеческие кипят. Названия нет пока окончательного. "Яблоневый сад" – думал, но что-то не то, как-то слишком уютно. "Черешневый" тоже…"
Я осмелился: "Может вишнёвый?"
Он посмотрел на меня задумчиво, потом отвернулся и замолчал надолго, глаза закрыв. Я даже подумал, не уснул ли. Но тут он глаза открывает, глядит мутновато.
"Мне нравится твоя идея, Серёжа. Сад будет вишнёвым. Вишня – зловещая ягода. Почти кровавая. Во МХАТе опять ставить будем. Кстати, Немирович не заходил к тебе?"
"Нет, – говорю. – Давно не был. Константин Сергеич на днях приезжал, Булгакову не поверил, что я пьесу пишу. А что?"
Он головой тряхнул от досады.
"Да Ольга пропала опять. Сказала, репетируют, а самой нет в театре. И Немировича тоже, – он немного помолчал, а потом сказал с усмешкой. – Если жена тебе изменила, радуйся, что тебе, а не отечеству".
Я головой помотал: "Ольга Леонардовна вас любит. Не верьте злым языкам!"
Пощипал Чехов бородку, поднялся – и к двери.
а Крым – полу остров.
А ведь не сравнить: ад и рай.
И где справедливость?
Посмотрел на меня пристально: "Тригорина сыграешь? У тебя актёрский диплом, и талант, и типажно подходишь".
Я руками развёл: "Станиславский решает. Недоверчивый он. А я не могу играть в атмосфере травли со стороны завистников. Это я не про Станиславского, так..."
Он улыбнулся печально.
"Понятно. Опять тебе Булгаков голову заморочил. Нет, я бы Мишу взял, племянника, но он всё время почти в Лос-Анджелесе. Или Элэе, как его сейчас называют. Школу актёрскую открыл, голливудских звёзд антропософии учит".
Я смеюсь: "Чему-чему?"
Он улыбается: "Да шучу. Учит конечно мастерству актёрскому, всем этим премудростям с перевоплощением, или неперевоплощением, с воображаемым центром тяжести и так далее. Насчёт антропософии это я так. Просто Миша последнее время со Штайнером сблизился. Боюсь как бы мощным адептом не стал".
Я вздыхаю: "Это беда, да. Секты… Хорошо, нет их в Новом мире…"
Я осёкся. Совсем забыл, что Чехов не захотел стать членом Совета, и толком ничего о Старом мире не знает…
Антон Палыч смотрел на меня очень странно. Опять снял пенсе – и давай его тереть. И дальше говорил почти без пауз, пенсне вернув на переносицу.
"С Островским вчера обедал, он велел тебе кланяться. Пишет новую пьесу, "Всякому андроиду – свой апгрейд". Вроде занимает его, хихикал рассказывал. Какую-то особенную философию отношений человека с искусственным разумом роет. Не знаю, посмотрим. В Малом вроде уже в план поставили пьесу. С Вампиловым виделся. Привет тебе. Пишет продолжение "Старшего сына", "Младший зять". И "Утиную охоту" тоже хочет продолжить".
Я мягко перебиваю этот поток: "Будет лисья?"
Чехов смеётся: "Не знаю, названия не озвучил! Потом ещё с Теннеси виделся. Тоже сиквел пишет. Не знаю, что они все, как с цепи сорвались, ностальгируют".
Я уточнил: "Теннеси Уильямс, я правильно понял? Помню, в "Орфее" его играл когда-то. Отличная пьеса".
Чехов кивает: "Орфей спускается в Ад" – хех! Прекрасная. А теперь пишет женскую версию. "Евридика вздымается в Рай".
Мы помолчали, немного подумали, наконец он говорит: "Хотел с Шекспиром встретиться, но он дико занят. Говорят, готовит какой-то новый проект. Он как "Гамлета" дописал, у него нет отбоя от предложений. Очень всем "Гамлет" понравился. И Тарковскому главное! Они уже снимают вовсю!"
Он погрустнел.
Я говорю: "Ничего, Антон Палыч, и ваших экранизаций дождёмся".
Он грустно улыбается, глядя мне в глаза.
"Я, Серёжа, сцену люблю. И она мне отвечает взаимностью. В отличие от некоторых. Всё, пора. За гостеприимство спасибо. Всегда люблю к тебе приходить. Какое-то после общения с тобой остаётся медово-золотистое послевкусие. В хорошем смысле. А, кстати, Яма тут где-то есть поблизости? – И добавил, скрывая смущение. – Куприна хотел повидать. Вроде там где-то он должен быть…"
Я недопонял: "Какая яма?"
Он снова пенсне снял, стёкла протёр запотевшие.
"Зыбкость какая-то в мире настала… Как будто нужно что-то успеть… Пустота надвигается…"
Сказав это, Чехов ещё больше смутился, рукой махнул, но не стал расшифровывать и ушёл. Даже чаю не выпил.
Я смотрю – тросточку свою позабыл. И на кой она ему?.. А потом понял: мне принёс, знает, что подагрою маюсь. Доктор есть доктор.
И на душе у меня потеплело.
ALL RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT ©2016 Sergei Burtiak
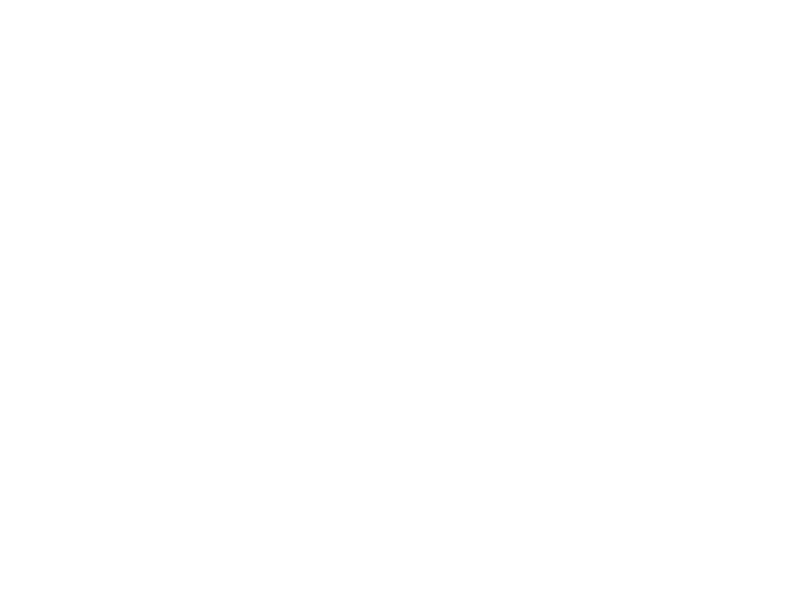
А. Чехов "Жена"
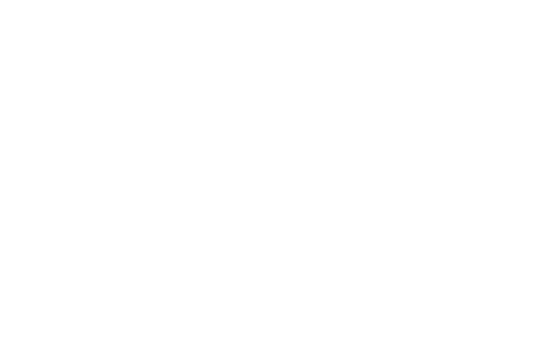
Сидит на подоконнике, на Луну полную смотрит, папиросину курит. А мой граммофон потихоньку играет Штрауса Иоганна Ивановича, короля вальса.
"Что это вы, – говорю, – Михал Афанасьич? Вы когда пришли-то? я не заметил…"
Он посмотрел на меня бледновато и говорит глухим голосом: "Спал ты, Серля. Дремал".
Помолчал немного и продолжает: "С Леной проблема. То Ритой себя называет, то Геллой. И метла пропала из дворницкой".
"Может совпадение просто?"
Он головой покачал: "Совпадений никаких не бывает".
Я вздохнул: "Это да".
Он окурок в пепельницу ткнул, с подоконника слез – и к столу.
Хвать мой роман неоконченный – и давай листать.
"Можно, – говорит, – я рукопись твою сжечь попытаюсь?"
Почему-то я немного встревожился: "Ну Михал Афанасьич!.. Сколько трудов-то!.. А вам что, проза моя не нравится?"
Он поморщился: "Нравится!.. Дело в другом. С утра кинул рукопись в излюбленную свою редакцию, огонь в печи и погас. Раз тринадцать пытался – не поглотила! Чертовщина какая-то! Ох, устал я, Сергейка…"
Я спрашиваю ненужно: "Редакция – это печка-буржуйка? А вы какую рукопись-то пытались отправить туда?"
Булгаков вздыхает: "Белую гвардию" сначала. Перечитал, и так тоскливо мне стало. Опять войну нашу последнюю вспомнил… Потом "Театральный роман". Надоела возня эта МХАТовская, интриги, Станиславский, Книппер, Немирович и прочие!.. А в особенности Чехонте!.. Вообще театр утомил современный. Думаю про Мольера роман написать. Или про Мельмота Скитальца. А ещё "Роковые яйца".
Я машинально переспросил: "Так-таки яйца?"
Никогда мне это название не нравилось.
Он повторил: "Роковые, да. Не удивляйся пока. Напишу – тогда удивишься. А ещё собираюсь описать свою медицинскую практику. Говорят, это модно сейчас. Вон, некто Моторов написал про некоего медбрата – и тут же успех. Ты читал?"
"Читал, да. Забавно".
Булгаков кивает: "Вот так-то! А недавно совсем прочёл я "Сатанинское танго", одного венгра с энергичным, медицински-звучащим именем Ласло Краснахоркаи. Такой у него доктор там объёмный, другие персонажи тоже… Вообще, сильнейший роман. Помню, там один говорит: "Всё равно всё развалится в жопу!" Прекрасно сказано. И главное – точно. У нас ведь примерно то же самое сейчас происходит… – Булгаков печально улыбнулся и продолжил совсем неожиданно. – Поэтому и хочется успеть порадоваться да посмеяться…"
Я внимательно смотрел на него.
Он продолжил: "Экранизация венгра не очень мне понравилась, длинная и мрачная, тяжелей, чем роман. А вот наше кино порадовало чрезвычайно. Посмотрели недавно с Еленой картину Гайдая по пьесе моей про Ивана Васильевича. Хохотали весь вечер. Эрдман, скорее всего, завидовать будет".
"Это вряд ли. У Николай Робертыча у самого прекрасная карьера в кино". Михаил Афанасьевич помолчал.
"Главную книгу свою я ещё не написал, вот что… А чувствую – зреет. И уже ест меня всего изнутри… Что-то ползёт на Москву. Вообще на нас на всех что-то ползёт, на весь мир, тёмное что-то, коричневое, глумливое, которое только кажется смешным да забавным, а на деле – смертельно…"
"Видишь? С моими та же петрушка! И как Гоголю удалось?.."
"Ну, во-первых, там и тогда рукописи ещё горели. Ещё и как. Но вообще в этом деле столько тонкостей и нюансов… Вы не вникайте. Не нужно вам это, поверьте на слово. А во-вторых, Николай Васильич сжёг то, во что сам не верил".
Булгаков подумал немного, посмотрел на меня изучающе, опять к окну подошёл, выглянул, а через секунду вдруг как шарахнется – и под подоконником спрятался.
Я говорю: "Это птица".
Он шепчет: "И пребольшая. С завивкой химической. И грудями навыкате…"
"Михал Афанасьич, давайте я вас домой провожу. Или здесь, на диване, поспите. Или, хотите, в комнате гостевой постелю на втором этаже. Валерьяночки дать вам? Мне помогает".
Он мотнул головой: "Иногда думаю: хорошо бы стать псом… Беспородным, мохнатым, Шариком каким-нибудь. И спать на солнце, как у этого…"
"У Касареса".
"Да. Или котом стать. Как у тебя".
Он снова на Луну посмотрел и вздохнул.
"Завидую, бывает, я Нилу Армстронгу и Баззу Олдрину… Тишина там на Луне, и нет никого… Поселиться бы там, в одиночестве…"
"Да как же-с, Михал Афанасьич… Ведь на Луне уже несколько городов наших построили…" – сказал я, немного помедлив.
Он тяжко на меня посмотрел, вздохнул и на диван стал укладываться.
Я ему помог, плед подоткнул, он сразу же задремал, напевая тихонько: "К берегам священным Нила…"
А потом вдруг задумчиво, во сне уже, произнёс: "Рита… Маргарита…"
Я подумал: "Ведь гений… А мается как…"
А Булгаков опять заговорил. Да внятно так, будто и не спит вовсе. Но глаза были закрыты: "И вдруг как будто прозрение… Я вспомнил имена… Турбин, Кальсонер, Хлудов, Рокк, Воланд… Недаром во время бессонниц приходят они ко мне и говорят со мной… Ты нас породил, а мы тебе все пути преградим… Лежи, фантаст, с заграждёнными устами…"
Мне стало очень не по себе.
И попросил я роботов Булгакова покараулить. Роботы превратились в кота Бегемота и Шарика, и замерли в тёмном углу гостиной. Я подумал было им замечание сделать, увидит Булгаков, не поймёт. Но решил их не трогать, ну увидит, может на мысль какую натолкнёт его это. Он и Воланда уже поминает, хоть ещё его не написал...
Ушёл я в спальню, достал любимый айфон-3 и позвонил потихоньку.
"Елена Сергевна, – говорю. – Михал Афанасьич опять у меня. Вы не волнуйтесь, он засыпает уже. А утром я его домой провожу".
Она мне печально так говорит: "Спасибо, Серёженька… Вы мне, если что, эсэмэсочку скиньте. Покойной ночи вам, ангел…"
И отключилась.
А я лежу в темноте и думаю неосознанно: "Тьма, пришедшая с Патриарших, накрыла обожаемый мастером город…"
ALL RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT ©2016 Sergei Burtiak
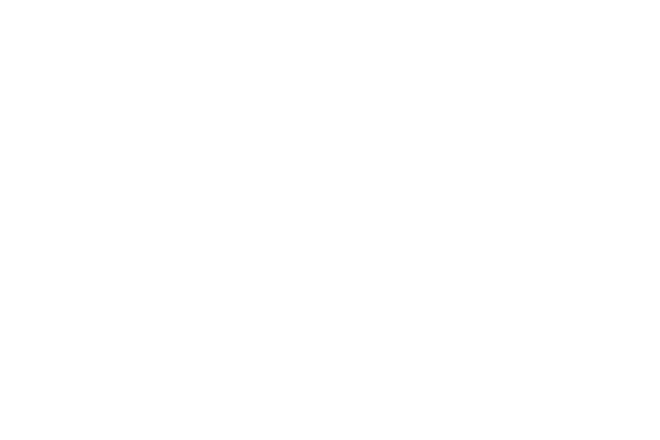
Понимаю, что нет такого слова. Но это с одной стороны. А с другой, в этом не самом удачном неологизме слышится мощь "Конкорда", французского пассажирского сверхзвукового самолёта, который когда-то очень давно, больше тысячи лет назад, был снят с производства из-за какой-то там конкуренции, сейчас уже точно не вспомню. Кроме того, в этом слове чувствую я упругость волны морской в родном Феллини городе Римини. Странно, всегда мне мерещился в этом названии миниатюрный вариант Рима, но Феллини никогда со мной не соглашался и утверждал, что Римини не имеет никакого отношения к Риму. Впрочем, в других приморских городах волна не менее упруга, что бы там ни говорил Федерико Урбаныч. Ещё в этом слове… "приамаркордился" я имею в виду… цирковая клоунада поигрывает, – с кульбитами, кувырками, прыжками, – философско-ёрнический дивертисмент, столь свойственный Федерико Феллини. С третьей же стороны, с Феллини уже не один неологизм связан. Как минимум есть "папарацци". Это нарицательное теперь уже понятие когда-то было фамилией персонажа в фильме "Сладкая жизнь". Да, собственно, и это вот "дольче вита" стало крылатым с лёгкой руки нашего толстоватого риминианского маэстро.
Мы решили посидеть на террасе. Была она вчера итальянской: терракотовые оштукатуренные стены, штукатурка якобы давно требует обновления, но этого никто не делает, эти чудесные коричневые и зеленоватые пятна под ней, по углам – уникальная итальянская палитра; тёмно-зелёные кудри виноградных лоз взбираются по стенам, создавая обрамление, а снаружи терраса конечно же выглядит небольшим аккуратным балкончиком с причудливой лепниной и ажурными перилами.
Немножко играла мандолина. Не так интенсивно, как она любит, когда приходит Горький. Это он Италию обожает надрывно. Бывает, засядут с Гоголем в шинке и давай бельканто хреначить, куры дохнут, ей-богу! Не от того, что плохо поют, нет! От того, что трогательно очень, задушевно, морозно-кожно.
Феллини чуть пригубив капучино, говорит: "Отар Иоселиани вчера заходил. Как же он мне напоминает итальянца! Это что-то невероятное! Даже странно, что живёт во Франции, ему в Италии самое место. Где-нибудь… не знаю… В Карраре".
"Насчёт Каррары не очень уверен, Федерико Урбаныч. Там скорее уж Резо Габриадзе бы жил, наверное… Или Нико Пиросмани. Быть горцем – особый склад мышления и характера. Микеланджело, вон, не смог долго. Понял, что нет там нужного ему мрамора, и слинял".
Фелллини посмотрел на меня недовольно. Причём как-то даже больше переносицей, чем глазами.
"Дело не в этом. Он не относился к этому месту сугубо утилитарно. Он с жителями подружился".
Я поморщился: "Не очень. Они его так до конца своим и не стали считать. Нет, конечно, уважали, он вместе с ними таскал мрамор, не боялся работы и всё такое, но горцем так и не сделался. Так что вы Отара Давидовича в чужие шкуры-то не рядите. Нет, он конечно человек интеллигентный, в драку не полезет. Хотя, может и полезет – грузин как-никак, кровь горячая…"
Я задумался, а с чего Феллини про это про всё заговорил?.. Иоселиани, Каррара, мрамор…
Феллини смотрит на меня с хитроватой улыбкой.
"А тебя не проведёшь, пата́ка! Неспроста заговорил, конечно. Вот решил тебе подарочек сделать, в дополненье ко дню рождения. Ты ведь любишь мрамор?"
"Спасибо, Фёдор Урбаныч… Но вообще-то я мрамор не очень люблю. Из камней я всегда любил самоцветы, яшму и оникс, хрусталь, чтобы лучше видеть. А особенно – нефрит и аметист. Но мрамор… Он всегда мне представлялся малоинтересным и маложивым материалом. В том числе и для отделки, и строительства. Понятно дерево, понятен гранит. Да, собственно, не только для зодчества, но и для ваяния мрамор так себе как-то… Уж лучше бронза, по-моему. В общем, мрамор я не люблю. И никогда не любил. И не я один. Вот, к примеру, мифический Пигмалион изваял себе Галатею вовсе не из мрамора, а из слоновьей кости. А что до Микеланджело… Спору нет, он велик. Но если бы резал не из мрамора, был бы не менее великим, а может и более".
Феллини слушал мой длинно-занудный и не слишком вежливый монолог с неожиданным удовольствием.
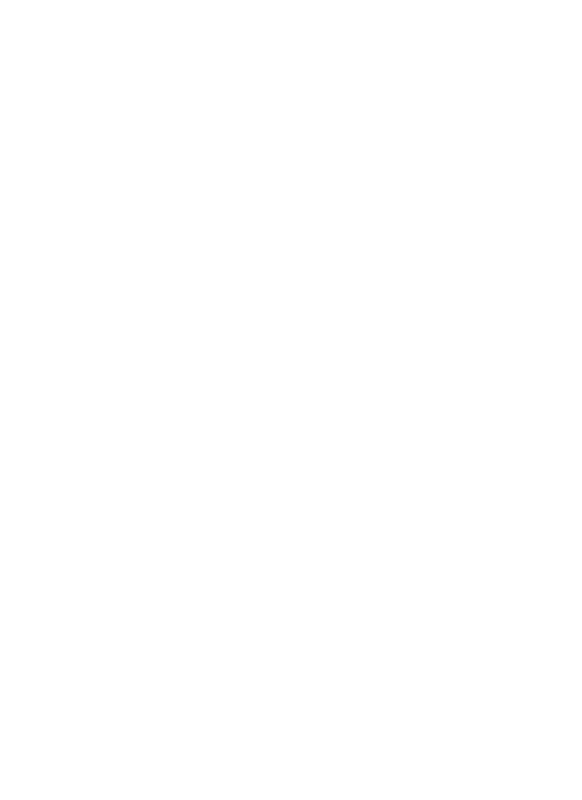
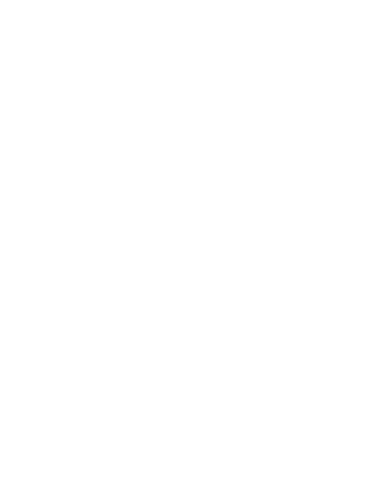
Métal Hurlant печатал рецензии из мира научной фантастики, тогда как Heavy Metal пошёл своей дорогой и превратился в настоящий «Playboy для гиков». Редакторы журнала, недовольные отзывами вроде «Heavy Metal» - лучше чем наркотики», решили писать о самых обсуждаемых личностях 70-х и 80-х. В журнале стали появляться рассказы и эссе за авторством Харлана Эллисона, Уильяма Берроуза и Стивена Кинга. Алехандро Ходоровски писал сценарии, которые Moebius затем воплощал в иллюстрациях. Джон Уотерс, Капитан Бифхарт и Федерико Феллини охотно давали интервью.
Жан-Пьер Дионне понял, что это стало направлением в искусстве, сопоставимым с сюрреализмом.
«Моим первым подписчиком стал Ален Рене, вторым — Крис Маркер, пятым — Феллини», — говорил он в одном из интервью. — «Я понял, каких высот мы достигли, когда попросил Джорджа Лукаса написать предисловие, а он прислал его через неделю»
Собрался я было подняться и посмотреть, но не успел. К мраморным перилам террасы поднялась и причалила витиеватая чугунная строительно-фасадная люлька, большая, и больше похожая на какую-нибудь древне-римскую галеру. В галере стоял улыбающийся Микеланджело. Рядом с ним, в его примерно рост, чуть пониже, торчала явно статуя, накрытая куском джутового холста.
"О нет! Ребята, ну сколько раз я вас просил! Даже в интервью говорил про это тысячу раз за тысячу лет!"
Микеле смотрел на меня по-прежнему с улыбкой.
Феллини сказал: "Это не то что ты думаешь. Мике, давай!"
Микеланджело Лодовикович Леонардович Буонарроти Симони взялся за холст и сдёрнул его с изваяния.
Точней, с изваяний.
Это был шок.
Скульптур в люльке оказалось две.
Во-первых, я. В облике Давида. Жуть какая-то… "Мой истукан..."
А второй была… Одри.
Точь-в-точь – Венера резца как бы Бенвенутто Челлини из фильма "Как украсть миллион". B том же, так сказать, "туалете"… То есть, практически без него, если не считать диадемы на голове.
Видимо, я смотрел на сюрприз как-то не так, как представляли себе мои друзья до этого события, потому что Феллини прокашлялся и произнёс: "Рано или поздно, вы помиритесь. Вот мы и подумали: будет этакая семейная композиция…"
Микеланджело посмотрел на меня виновато.
"Слушай, Серджио, я тебе обещал потолок расписать, а даже на днюху не смог заскочить… Давай стелефонируемся на днях, я всё сделаю. Essere sicuro".
Он посыпал голову меня-Давида каким-то серым порошком и статуя исчезла. Потом Микеле выпрыгнул из люльки-галеры, и пропал из глаз. Мы с Федерико услышали внизу цокот копыт.
Я подошёл к парапету, перегнулся и посмотрел. Микеланджело уматывал по переулку от моего дома верхом на кентавре.
Феллини посмотрел на меня виновато.
"Scusa, Серджио… Как лучше хотели, а вышла неловкость".
Я вздохнул и сел в плетёное кресло за столик.
"Это вы меня простите, Федерико Урбаныч. Что-то я… немного расклеился. Как будто чувство юмора напрочь утратил. Давайте, что ли, пиццу закажем. Или лазанью".
Он обрадовался: "А давай!"
Я мысленно вызвал роботов.
Ребята прибежали тут же.
Один был Пиноккио, другой – золотым Оскаром американской киноакадемии.
Мы с Феллини посмеялись.
Я говорю: "Парни, во-первых, прикройте, пожалуйста, это…"
И кивнул на статую Одри.
Пиноккио закрыл статую джутовой холстиной, после чего я им заказал нашу фирменную пиццу с морепродуктами.
Когда роботы ушли, Феллини ещё немного помолчал и сказал: "Сердце разрывается, на вас с Одри глядючи. Ей-богу, как дети малые. Ну чего вы всё делите? Ведь давно бы уже… а?.."
И замолчал, глядя в сторону, на храм Христа Спасителя.
Я сказал: "У нас непреодолимые противоречия. Во всяком случае пока непреодолимые".
"Когда вы познакомились в Италии, таковых не наблюдалось, – проворчал суховато Феллини. – Вот мы с Джульеттой… Тоже ведь ссоримся. Но никогда, никогда не расставались. Несмотря ни на что".
Я вздохнул: "Я живу в несколько ином мире, уж простите за пафос. И есть объективные причины, почему мы не можем быть вместе. К сожалению, я не свободен".
Он вскинул на меня удивлённые глаза: "Это как? Ведь ты не женат?!"
Я помотал головой: "Тут другое. Я привязан к Москве, к этому месту почти физически. Впрочем, не важно… А с Одри… Да, поначалу всё было прекрасно. Я был в Италии, с Данте, ему надо было по делам в Верону и Ватикан. Мы с Одри познакомились, много гуляли и разговаривали… Даже руки совали в эту вашу, как её, заглушку…"
Феллини немного обиделся: "Ну что за ерунда! Никакая это не заглушка. "Уста истины" называется".
"Ну да, совали руки в уста. Весь Рим облазили: Вилла Боргезе, Колизей, Аппиева дорога, Капитолийский холм; гладили волчицу и Рема, грозили пальцем Ромулу, купались в термах Каракаллы и даже в фонтане Треви, сидели на Испанской лестнице и в соборе Святого Петра, глядели на Алтарь Отечества и Чирко Массимо… И всё было замечательно… Но потом мне нужно было возвращаться в Москву. Одри поехала со мной. А потом… Послушайте, я никак в толк не возьму, почему всех в мире настолько заботят наши отношения с Одри?.."
Я почувствовал подползающее раздражение.
Феллини сказал успокаивающе: "Серёжа, в этом есть какая-то тайна. Никто не знает какая, но она точно есть. Возможно, когда-нибудь мы поймём. Кстати, мне Трамбо признался, что "Римские каникулы" он с вашей истории знакомства написал, условно конечно".
Я улыбнулся: "Я знаю. А ещё Ричард Кёртис, друг мой английско-новозеландский на сценарий "Ноттинг-Хилла" тоже нашей историей вдохновился".
Феллини добавил: "Только героя сделал никому не известным, а ты – знаменитость".
Я махнул рукой: "Это детали…"
Феллини сказал: "Да, чирко… Люблю цирк. Недавно был у вас на Цветном, с Никулиным виделись. Мощный старик. Решили совместное представление сделать и по миру катать. В режиме шапито. По мифологии этрусков и умбров. Красиво будет, Дю Солей отдохнёт".
Мы ещё помолчали. Беседа не клеилась.
другой – золотым Оскаром американской киноакадемии
Я посмотрел на него, и мы расхохотались.
"Что-то роботы мои, кажется, в тесте увязнули… – сказал я, почувствовав, что Феллини проголодался. – Обычно Пушок пиццами занимается, но он сегодня в Третьяковку и Пушкинский музей ушёл на весь день, у него после визита Ван Гога с Шагалом увлечение живописью…"
Я дал роботам мысленный отбой. Тем более, что увидел проницающим зрением, что у них и в самом деле какие-то нелады на кухне, то ли тесто не получается, то ли устрицы все разбежались…
"Угощу-ка я вас, Федерико Урбанович, нашей с Одри фирменной эггз-пиццей. Одри конечно её делала значительно лучше, чем я. Да и делает, я думаю…"
"Экс-пицца? Серджио, ты шутить? Бывшая пицца? То есть, вот этот бортик из теста, который никто никогда не доедает? Если вспомнить русского клона нашего Пиноккио – три корррочки хлеба!"
Смеясь, мы переместились на кухню, где я быстренько соорудил огромный омлет с массой всяких мясных и овощных добавок.
Роботы сделали нам ещё по капучино, и мы перекусили.
Эггз-пицца Феллини понравилась.
"Обязательно сделаю такое Джульетте".
Я говорю: "Джульетте Гаэтановне мой нижайший поклон".
Феллини кивнул.
"Тонино опять новый фонтан делает. Говорит, твоя идея".
Я усмехнулся: "Про семейный быт?"
"Ну да. Гора посуды, над ней водопроводный кран, а по краям, внизу, на самой большой тарелке сидят спиной друг другу грустные парень и девушка. Отличная идея, по-моему".
"Да это так, вырвалось однажды… Гуэрра тогда в Москве с Лорой гостил, жили в Серебряном бору, я к ним приезжал с Ваней Шакуровым, поболтали…"
Феллини посмотрел на меня грустно: "Ты точно не можешь в Рим приехать? Тарковский "Гамлета" у нас снимает, на "Чинечитта". Любит Андрюша Италию. Шекспир тоже любит. Иногда они снимают в Элэе, кое-что в Лондоне и окрестностях, кое-что в Дании. Но основные павильонные съёмки всё-таки в Риме".
Он немного помолчал.
"И Одри там поселилась. Похоже, надолго. Рим ей нравится. Правда, живёт она замкнуто. Съёмки – дом, дом – съёмки…"
Я вздохнул и развёл руками. Что тут скажешь. Мне стало грустно. Может, думаю, граппы махнуть?..
Феллини покачал головой: "Не стоит. В крайнем случае амаретто".
Я хмыкнул: "Да ну, зелье де́вочковое. Скажите ещё вермут с оливкой, гальяно с анисом и фенхелем, или сицилийскую марсалу, или "солнечную росу" из лепестков роз и апельсинов, или самбуку с мухами перемешать с лимончелло! Хотя, его вроде Дэнни Даниилович Де Вито любит…"
Феллини смотрел на меня с уважением и улыбался. А меня перечисление итальянских алкогольных изысков напрочь отвратило от мысли выпить спиртного.
Я глотнул капучино, и это было чудесно, не люблю алкоголь.
"Всё-таки, ваш неореализм – мощнейшее явление. Сколько он всего породил, и до сих пор порождает… Один наш Михаил Наумович Калик чего стоит… Заходил тут недавно, про новый фильм рассказал, о жалости".
Феллини бодро кивнул: "Да, Калик прекрасен. Особенно та молдовская новелла, где парень с девушкой ехали на стоге сена. Ничего более эротичного вообще не видел в кино".
"Ну это вы преувеличиваете, насчёт ничего. Но правда ваша, кино волшебное. И музыка Доги. Он мне вашего Нино Роту напоминает".
Опять зазвучал Нино Рота. Феллини слушал музыку без ложного умиления, внимательно, и было видно, что душа его радуется.
"Вчера Бениньи прибежал. Горит идеей сыграть Юлия Цезаря и Брута одновременно, в одной картине. Смешной он. Гремучая смесь Ришара и Вуди Аллена".
Мы опять посмеялись.
"Жизнь прекрасна…" выдохнул Феллини.
"Книгу "Делать фильм" в сотый раз переиздали в Москве", вдруг вспомнил я.
Феллини хохотнул и сказал: "С тех пор, как кино может снять каждый, – просто подключиться к компьютеру и выложить туда свои образы, – люди стали массово интересоваться кинематографом".
Я поморщился: "Федерико Урбанович, вы видели это кино? Арт-хаус в ругательном смысле. Любое дело должен делать профессионал и талант, а это всё… извините, выпуки какие-то…"
Сидели мы ещё долго, редко видимся, не наговориться. Беседовали о Челентано, Орнелле Мути, Паоло Виладжио; Феллини рассказал, что к нему недавно приезжал Евтушенко в очередной цветастой рубахе, читал новую поэму о президентах, Рязанов заглядывал, поделился планами насчёт нового фильма по мотивам "Божественной комедии" Данте, смешно пересказывал их бесконечные споры, музыку Эннио Морриконе дал послушать для этой картины; я с удовольствием вспомнил любимые "Амаркорд", "Восемь с половиной", "И корабль плывёт…"
Когда Феллини ушёл, я попросил роботов достать из люльки статую и поставить на пол террасы. Снял холст и долго смотрел в мраморное лицо Одри. Потом подошёл, положил ладонь на щёку статуи, погладил… Нет, не оживёт. Я не Пигмалион…
Но кое-что сделать я, всё же, могу. Я закрыл глаза, постоял так совсем не много, минуты сто две – сто три, не больше, и вдруг почувствовал, что щека под ладонью теплеет, а потом ускользает.
Открыв глаза, я увидел, что на террасной плитке стоит небольшая, сантиметров сорока в высоту фигурка Одри из светло-зелёного, будто светящегося изнутри нефрита.
Я взял её на ручки и унёс в спальню. Там у меня есть венецианский шкафчик с любимыми статуэтками, пусть стоит, радует глаз.
Когда я поймал себя на мысли, какие купить цветочки-конфетки и где в Москве могут продаваться красивые платьишки кукольных размеров, я понял, что как только проснусь (а проснусь я рано), первым делом позову в гости Кандинского. Давно я не виделся с профессором Василием Хрисанфовичем, а пора, похоже, нам побеседовать о псевдогаллюцинациях и всяком таком. Да и о брате его расспрошу по деду, Василии Васильевиче, а то подарил великий живописец мне картину свою лет триста назад и пропал куда-то. Не дело это, ох, не дело.
ALL RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT ©2016 Sergei Burtiak
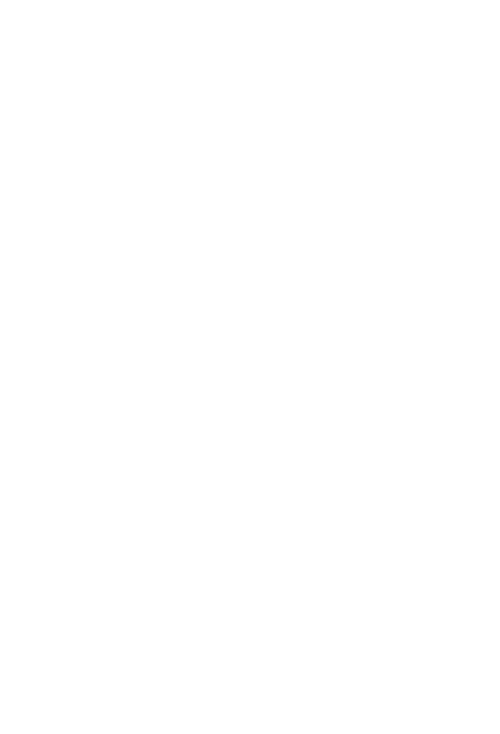
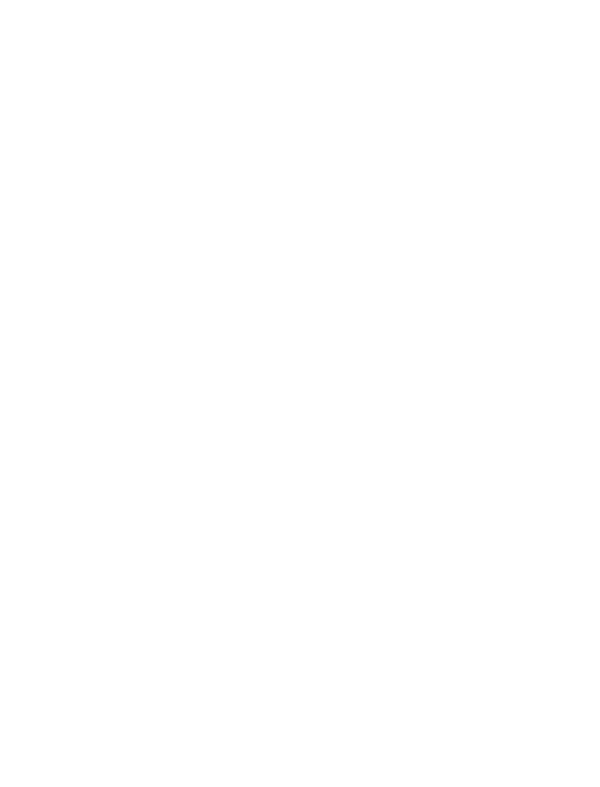
"Oh! – говорю. – My huckleberry friend!"
Он улыбается, обнимает меня, говорит: "Отличная песня "Moon river". И строчка эта точно к моему Геку относится, прочитали уже, видно, песенники-то!"
Я улыбаюсь: "А как же иначе!"
"Сэр'ёжа, – продолжает он. – Зацени!" подтяжки свои оттягивает и отпускает.
Я не пойму: "Что заценить, Сэмюэль Иваныч?"
Он плечами жмёт: "Если уж Иваныч, то лучше Марк, по-моему. Нет?"
Я киваю: "Хорошо, Марк Иваныч".
Он усами подвигал, достал было трубку, но сдержался и спрятал.
"В сто первый раз курить бросить пытаюсь", говорит.
Я вздыхаю: "Понимаю вас очень, я уже все попытки оставил. Не выйдет".
Он кивает печально.
"Так что заценить-то?" напомнил я, понимая, что он всё ещё раздумывает, не обидеться ли и не уйти.
Он носом посопел: "Вот. Подтяжки. Саморегулирующиеся".
И показал.
Я оттопырил нижнюю губу.
"А что, вполне… А зачем это?"
Он опять стал багроветь.
"Хотя, – быстро продолжил я, – у Стругацких в "Понедельнике" есть один маг, светлый, Магнус Редькин. Так он – то штаны-невидимки изобретёт, то…"
Он руку поднял, как Толстой прямо.
"Хватит, понял! Хочешь сказать: "Ты бы лучше, Марк, книжки писал, чем шнягу всякую изобретать беспонтовую. Так?"
Я уклончиво повёл головой, обижать его не хотелось.
Он вдруг расхохотался.
"Деликатный ты человек. Вот за что тебя люблю. Ну, кроме книжек твоих, конечно. Горького иногда напоминаешь, деликатностью".
Мы посмеялись.
"Кризис у меня. Вот и взялся изобретать. "Принца и нищего" начал – бросил. Не понимаю, неубедительно. Ведь вроде как для детей, а детей-то и нет у нас в мире. Правда, новая идея пришла. Про американца, который попал к рыцарям, в Англию времён короля Артура. Хочу к Уэллсу сходить, машинкой его воспользоваться. Смотаться туда, посмотреть что к чему, фактура нужна настоящая. Но у него очередь, а может темнит он что-то. Вот и жду".
Он закурил сигару. Ужасно вонючую.
Я поморщился и предложил свои, но он отказался.
"Опять твой роман перечитывал. Симпатично. Новые смыслы нашёл. Кстати, я понимаю, кто тебя на этот текст вдохновил. У тебя там во дворе и в подъезде отличные коты тусуются".
Я говорю: "Нет, Марк Иваныч, на роман тот меня вот кто вдохновил".
И показываю фото Пушка. Серо-британского окраса он, с ярко-зелёными глазами, в классическом костюме и с галстуком.
"Серьёзный. А где он?"
"Недавно из Одессы вернулся, гостил у предков моих. Точнее, он вообще на два города живёт. Сейчас по Москве гуляет, соскучился".
Твен говорит: "Умный кот, сразу видно".
Немного помолчал, опять сигару достал, спички длинные, закурил, пару раз затянулся глубоко и изрёк: "Если б можно было скрестить человека с котом, человек от этого очень бы выиграл, а вот кот не очень…"
Пока мы сидели, он выкурил ещё пять сигар. Вот и бросай после этого… Эффект тетивы… Дышать было нечем, и Твена я практически не видел в густом сигарном тумане.
Я мысленно попросил одного из роботов, чтоб проветрил. Из каморки вышел младший. Сегодня он был в серебристом костюме и с длинными белыми волосами.
Твен посмотрел на него с недоверием.
"Вертер?"
Я кивнул.
"Унылое изобретение".
Не знает Твен секрета моих роботов, не часто он у меня бывает.
Моё "унылое изобретение" быстро проветрило гостиную.
Я головой покачал: "Времени не было, много пишу…"
"Тогда пойду к Ломоносову. Он грозился кораблик нанять с бильярдной. Я-то свой пароход в док поставил в Одессе, хороший там завод судоремонтный, надо подлатать малость посудинку. А ты подтягивайся вечерком к Бережковской набережной. По Москве-реке покатаемся, шары погоняем. Пушкин тоже будет, Лермонтов, Горький. Как же я реки люблю!.. Миссисипи, Амазонка, Темза, Москва… Ты читал, как меня Фармер в своём Мире Реки вывел?"
"Читал. Мне понравилось".
"Мне тоже. И он меня Клеменсом называет. Мне, говорит, настоящее имя ваше больше нравится, не стану переделывать. Упрямый. Ну я рукой и махнул, Клеменс – так Клеменс. Он же персонаж, в конце-то концов, не совсем я. Да и мне, если честно, настоящее имя последнее время нравится больше".
Он встал из кресла и пошёл к выходу. У двери остановился, приобнял меня, наклонился к моему уху поближе и полушёпотом сказал: "А Тесла подтяжки одобрил. Сказал: полезная вещь. И попросил первый экземпляр ему презентовать, как начну выпускать их серийно. Вот так-то".
Я говорю: "Серьёзно? Николай Милутиныч вот это одобрил?"
Твен посмотрел на меня гордо и многозначительно.
"Правда, ещё кое-что странное сказал. Что может вообще нам никакие подтяжки скоро не понадобятся. Что исчезнем мы все. На страницах наших же книг. Вот этого я абсолютно не понял. Но, похоже, понял Пристли. И по-быстрому написал "Тридцать первое июня", уютную такую книжонку, по мотивам моего "Янки из Коннектикута при дворе короля Артура".
Я почувствовал, что мне становится страшно. Страшновато, если точней. Если уж Тесла… А Пристли… Конечно, я знал его сказку, она в Старом мире была. Здесь не было, и он решил её написать, чтобы, в случае чего, именно в ней оказаться. Это всё как-то фантастично и страшновато.
Твен дослушал мои мысли, кивнул многозначительно, сказал: "Второй кометы пока нет, но чует моё сердце, скоро будет…"
Провожать моего загрустившего гостя вышли оба робота. Они были Томом Сойером и Гекльберри Финном.
Наш гость хохотал так, что чуть не обрушился потолок.
Отсмеявшись, Твен сказал: "Ну шельмецы! Хорошо разыграли!"
Впервые пожал роботам руки с уважением и ушёл.
А я подумал: "Мало того, что Тесла гений, так ещё и человек добрый. А что же он в виду-то имел? На страницах исчезнем…"
И решил ему протелефонировать. Заодно посоветоваться надо, что-то у меня батарейка его в сердце стала слабее работать. Не пора ли менять. Заодно и насчёт других тревожностей посоветоваться. Вроде улеглась история с письмами, не шлют их больше из Преисподней, а всё равно неспокойно.
ALL RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT ©2016 Sergei Burtiak
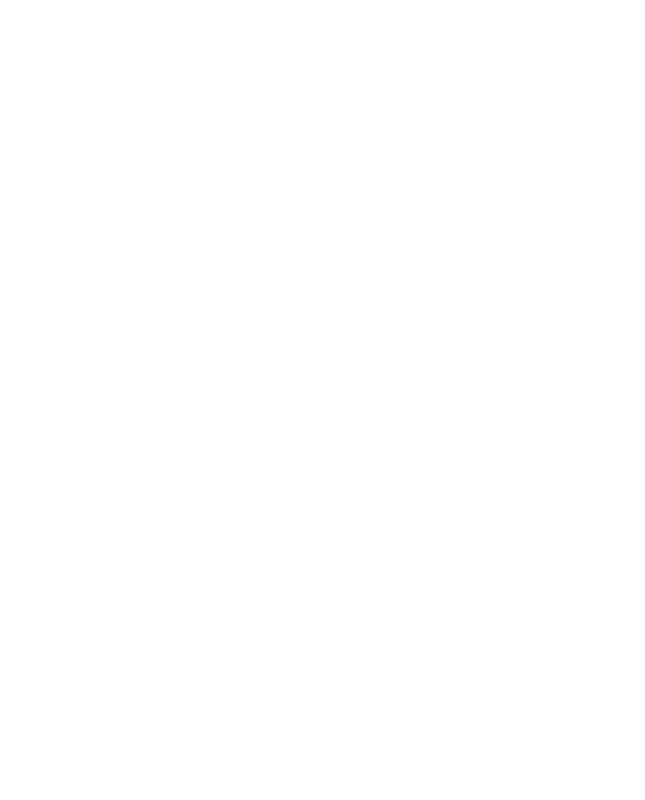
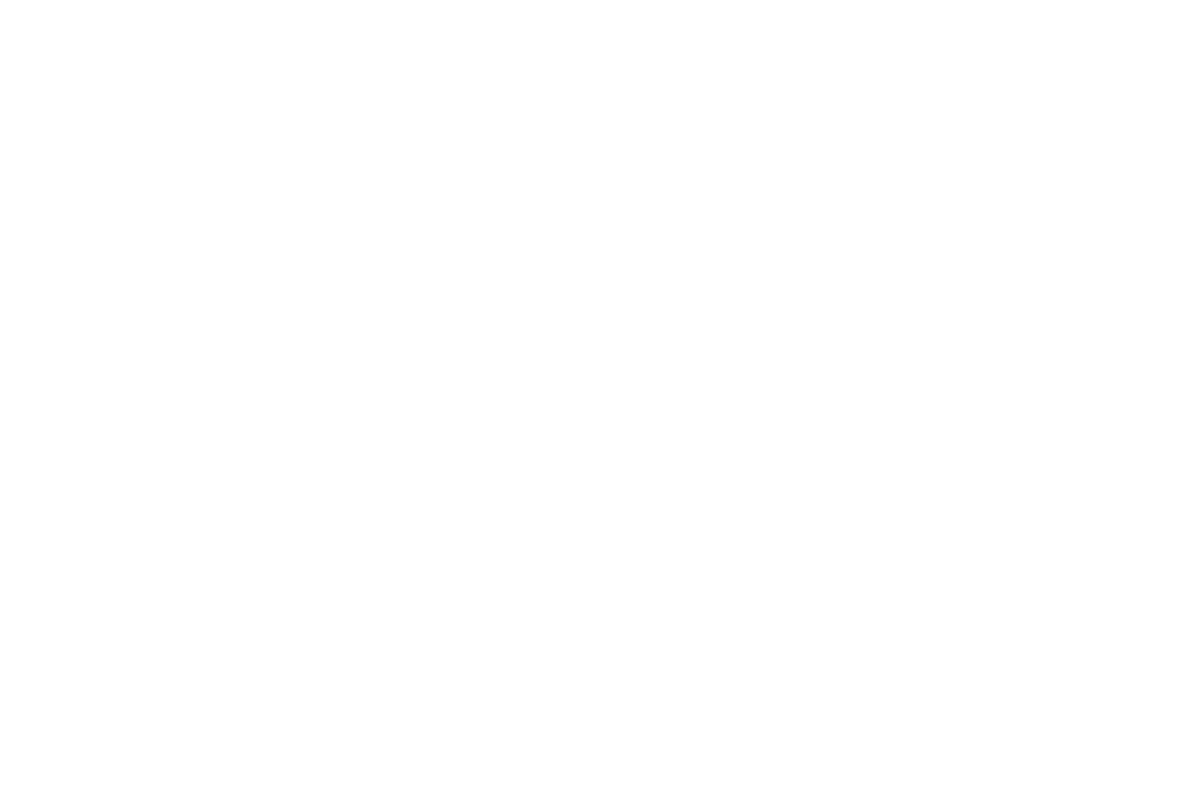
"Серёга, ты с дамой?"
Я говорю: "Нет, Генрих Генрихыч, пишу я, не до амуров".
Он поморщился: "Не называй меня так. Не люблю. Хэнк я, Хэнк".
Я вздыхаю: "Не могу я без отчества".
"Понимаю. Тогда зови Хэнк Хэнкычем, в твоём стиле".
Я ответно киваю.
Он интересуется: "А скажи мне, невесты в твоём городе есть?"
Я смеюсь: "Это лучше Ильфа с Петровым спросить".
"Спрашивал. Они сказали хором: "Кому и кобыла невеста!"
Мы посмеялись.
Он фляжку бурбона достал, пинту, протягивает: "Глотни. И сразу пивка".
Достал упаковку непонятно откуда, будто из воздуха.
Я головой мотаю: "В завязке я".
Он удручённо в окно посмотрел: "Вот и Рахманинов…"
"А вы Есенина разыщите. Маяковский говорил, он как раз сейчас анестезию эту ментальную практикует".
"Не хочет он со мной анестезировать. Говорит, я стихи не в рифму пишу".
Я головой покачал: "Да, Сергей Саныч последнее время строг стал. Ну тогда Ерофеева".
Буковски тоже головой качает: "Нет в Москве Венички, в Петушки укатил. Не стану я гоняться за ним и в транспорте выпивать, не люблю".
Я задумался.
"К Вознесенскому нагряньте".
Он крякнул: "Андрюша в Испании, у Гойи гостит. И Дали там же. Думал с Бэллой выпить, а к ней Сафо прикатила, они меня выставили".
Я улыбнулся.
Буковски поморщился: "Вчера Хэнк Муди заезжал на "Порше" своём. Одиночеством мается, как и я. Но пить с ним не буду. Он меня расстроил книжкой своей. "Бог ненавидит нас всех" – название чрезмерное, даже для меня. Не согласен я с ним. А он упёрся, менять не хочет. И просто достал со своей Карэн: Люблю, люблю! Тьфу!.. Как ребёнок капризный! Не пойму я его, то ли он писатель, то ль персонаж…"
Он помолчал, посмотрел на меня внимательно. Постепенно стало понятно, что выражение лица моего ему не понравилось. А как оно может понравиться. У меня на лице, видно, всё отражалось. Собственно, и молчать я долго не стал.
"Хэнк Хэнкыч, какой к псам Муди? Что кто-то этот псевдоним взял, не значит ничего. Нет писателя Хэнка Муди в реальности! И Карэн его любимой тоже нет, персонажи они, персонажи-с! Допились вы, похоже, дорогой мой Генри Чарльз Хэнкыч Буковски".
Он не обиделся, на кухню сходил, стакан принёс, молча налил бурбона и мне протянул.
Я только вздохнул тяжко, взял да и выпил до дна.
Он спросил: "С Одри ты не помирился, это я уже понял".
Я головой мотнул и стал смотреть за окно.
"…ты сказала: доброе утро… вежливо, по-европейски… доброе утро… для кого оно доброе? для тебя? для меня? для Валеры Моисеева, который всю ночь за стеной пытался покончить с собой, но не мог, потому что не знал, как будет лучше – повеситься, отравиться или вскрыть себе вены, и, уставший от сомнений, заснул, привалившись щекой к батарее? для кого может быть добрым утро после кромешной тьмы, в которой исчезла любовь?.. она не думала, повеситься ей или застрелиться, просто умерла, да и всё, как умирают киты на песке, как гаснет солнце, падая за горизонт, как перестают дышать люди, когда больше не сжимается сердце… доброе утро… по инерции… доброе утро… а я теперь так и буду твердить тебе: доброе утро… просыпаясь один, без тебя целую вечность… наверное целую вечность…"
Я засмеялся: "Хэнк Хэнкыч, что это вы, эвфемизмы использовать стали?"
"Ну да, вообще-то я прямо люблю. Меня за это Боно когда-то заценил, кстати. Но ты ж у нас щепетильный. А хочешь – в морду мне дай. За малодушие. Но учти, я буду защищаться, я бокс люблю".
Я вздохнул и промолчал.
Он по комнате походил.
"Это всё Голливуд долбаный. Фабрика, мать её, грёз! Такое иной раз нагрезят, что хоть обос… (он осёкся под моим взглядом и закончил явно не так как хотел) обосновали бы как-нибудь".
Я засмеялся.
Он осклабился по-обезьяньи и ещё выпил.
"А хочешь, я вас помирю?"
"Не надо, Хэнк Хэнкыч. Одри у Тарковского в "Гамлете" Офелию играет, роль большая, сложная. Не хочу ей мешать, голову девчонке морочить…"
Он вздохнул: "Понимаю… У меня с Линдой тоже непросто складывалось. Как-то помню, она решила, что ей надо другого найти. Я сначала тоже подумал: не стоит мешать, она самостоятельная личность. А потом подумал: какого хрена! Пришёл в бар, она там с этим новеньким пыталась свиданку мутить… Начистил ему физиономию. Её слегка задел, нечаянно, она нас типа разнимать влезла. Ну и всё, вернулась она, и мысли про других как дождём смыло. А чего, Одри на тебя из-за алкоголизма дуется?"
Я смеюсь: "Хэнк Хэнкыч, нет у меня алкоголизма".
Он посмотрел с сомнением коротко, глаза отвёл, потом ещё раз посмотрел, чуть длинней и внимательнее.
"Тогда не понимаю. Ты же классный! Чего ей ещё?"
Я руками развёл: "Она – Одри Хёпберн, она вся в кино, в искусстве!.. Её всё человечество знает! А я кто, если разобраться… Домосед и бумагомарака!"
"Ты?! Да ты всю Солнечную систему объехал! И столько выдающегося написал! – он помолчал, подумал. – Ты знаешь, женщине не важно, кто ты и сколько людей тебя знают. Вот, помню, когда я на почте служил ямщиком… – он сам себя перебил, проворчав. – Иди-ка сюда".
Он подвёл меня к большому зеркалу: "Сам смотри".
Я посмотрел. Да, действительно, по сравнению с обезьянообразным человеком я выглядел неплохо: рост шесть футов, худощав, но не хил, в плечах широк, но не шкаф, в бёдрах узок, но не подростково; серые глаза – не потухшие и вроде даже неглупо-иронично глядящие; нос не пипка, в меру большой, с чуть заметной горбинкой; волосы тоже почти серые, будто тронутый сединой пепел…
"Ну?! – сказал Буковски так, как будто продавал мне меня. – Нет, конечно, сейчас не все твои достоинства чётко видны, но думаю, и с ними полный порядок".
Я усмехнулся и сказал: "Хорошо, что зеркало не отражает отсутствия мозга. Остальное не так уж и важно. Вы же знаете старинную сентенцию о мужчине, который чуть красивее обезьяны".
"Знаю конечно! – Буковски с удовольствием оглядел себя. – Я вот значительно страшней любой обезьяны, а всё равно всё зашибись. А что с мозгом-то? Я недопонял".
Я опять вздохнул: "Не могу придумать, как сделать кое-что хорошее, не натворив кучи бед".
"О, брат!.. – протянул хрипло Хэнк. – Если бы ты один! Но делать всё равно надо. И будь что будет".
Я покачал головой: "Слишком цена велика…"
Он пристально посмотрел мне в глаза, понял, что продолжать тему я не намерен, и отошёл от зеркала к бару.
"Слушай, ты хоть и не прав, но давай посидим по всем этим поводам! Рахманинова послушаем. Он заходил недавно, новый диск подарил. Стихи почитаем! А?" и посмотрел с надеждой.
Я его спрашиваю: "А скажите, вам тоже кажется, что наш мир катится в пропасть? Ну, что-то зловещее грядёт или как-то так…"
Он смотрит удивлённо и говорит: "Грядёт зловещее похмелье, Серёжа. А в остальном – в порядке мир, я думаю. Вот и Муди такого же мнения. Кстати, я подозреваю, что на самом деле никакой это не был Хэнк Муди. Скорее всего заигрался Дава Духовны в ентого персонажа, никак из образа не может выскочить. Он и про конец света-то рассуждал в духе фильма "Эволюция". Видел?"
"Видел, да. Это где он профессора играл, и они там шампунем от перхоти инопланетян победили. Смешно".
Мы посмеялись. Потом Буковски посерьёзнел.
"Ну что?" и снова смотрит с надеждой.
Я рукой махнул отчаянно: "А давайте и правда. Посидим. Но так, без алкоголизма".
Буковски обрадовался: "А потом – на ипподром!"
Он отправил меня на кухню за хлебом с ветчиной, а сам достал крохотный радиоприёмник от Теслы, чуть больше ногтя, врубил Рахманинова, сотый концерт, и мы стали сидеть. Роботы мои к нам так и не вышли, не верит Хэнк Хэнкыч в роботов, совсем не верит.
ALL RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT ©2016 Sergei Burtiak
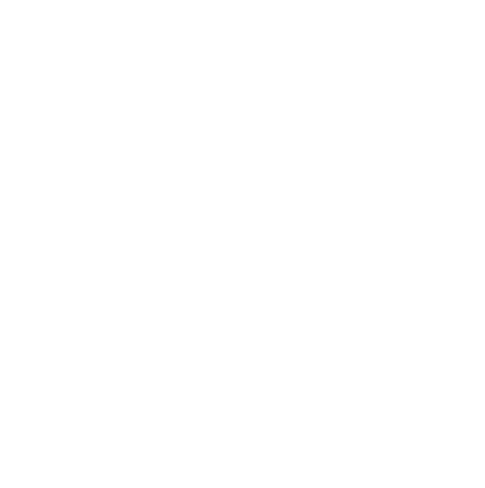
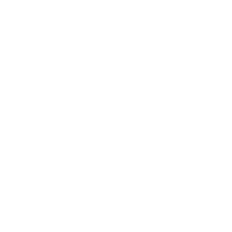
Эпизод 2........................
Эпизод 3........................
Эпизод 4........................
Эпизод 5........................
Эпизод 6........................
Эпизод 7........................
Эпизод 8........................
Эпизод 9........................
Эпизод 10.....................
Эпизод 11.....................
Эпизод 12.....................
Эпизод 13.....................
Эпизод 14.....................
Эпизод 15.....................
Эпизод 16.....................